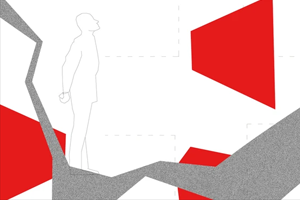 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиКак заработать самоорганизованным сообществам
 © Кристина Вануни
© Кристина ВануниМарина Раку — доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник Государственного института искусствознания, ответственный научный редактор нового собрания сочинений Шостаковича, заместитель главного редактора журнала «Искусство музыки: теория и история» и одновременно музыкальный руководитель театра «Мастерская Петра Фоменко» — довольно уникальным образом совмещает научную карьеру с самой что ни на есть живой театральной практикой. Екатерина Бирюкова попросила ее ответить на больной для многих вопрос — зачем переписывать классику.
— Марина, одна из сфер ваших научных интересов — история присвоения раннесоветской и сталинской культурой музыкальной классики. Проще говоря — как Бетховена и Чайковского перепридумывали и переформатировали в соответствии с актуальными идеологическими задачами того времени. Вы первая всерьез раскапываете эту тему, ей посвящены ваша докторская диссертация и книга, вышедшая несколько лет назад в издательстве «Новое литературное обозрение». Во времена моего обучения от этого эпизода отечественной истории музыки принято было отмахиваться как от досадного казуса под названием «вульгарный социологизм», имевшим даже не ругательный, а комический оттенок. Переделка оперы Глинки «Жизнь за царя» в оперу «Серп и молот» — это воспринималось как анекдот. Но сегодня проблема редукции классики вновь горяча. В связи с «режиссерской оперой» по этому вопросу не высказались только самые ленивые. А очень скоро мы, глядишь, присоединимся к общемировому пересмотру шедевров с точки зрения постколониальной и феминистской оптики.
— Редукция классического наследия — историческое явление, которое, строго говоря, периодически возобновляется. Это всегда так или иначе связано с приходом новой аудитории, неофитов. Так, например, было в 30-е годы XIX века во Франции. Париж был мировой оперной столицей, после Венского конгресса и падения аристократии эпоха бидермайера вывела на первый план совершенно новую публику, которую надо было как-то вовлечь в оперное действо. Для этого понадобились новые средства воздействия, возникает жанр большой оперы (grand opéra), который вбирает в себя далеко не только музыку. Искусство упрощает свой язык, сокращает перечень сюжетов и имен. Это сродни тому процессу, о котором пишет Гарольд Блум в своем труде «Западный канон», — возникает канон, который обязательно знать всякому культурному человеку. И этот человек — не аристократ, имеющий возможность много и плодотворно общаться с искусством, живущий внутри него, являющийся меценатом и утонченным знатоком. Нет, не к нему теперь искусство обращается.
Где-то к 1848 году новая массовая публика уже освоила это культурное пространство. И в 60-е годы XIX века опять новый зритель приходит. Появляется лирическая опера (opéra lyrique). Кому она адресована? Она адресована буржуа, у которого появились деньги и время ходить в театр вместе со своей семьей. И в каком-то определенном объеме — сокращенном, редуцированном — вбирать в себя мировую культуру. В виде, так сказать, шедевров. Оперы «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Фауст» — это попытка рассказать средствами театра сюжеты мировой литературы. Фактически эти сюжеты актуализируются — через язык, через определенное упрощение, через приближение к зрителю. Это похоже на то, что происходит и сегодня. Мне кажется, что встреча с новой аудиторией — это ключевой момент, из-за которого происходят переосмысление классики и попытка ее рассказать каким-то другим языком.
— Но тогда для этого писали новые произведения, а не переделывали старые.
— Да. Но все равно есть сходство — в том, как сложный текст (например, «Фауст») приспосабливается к оперной сцене. В советские 20-е музыкальное богатство тоже сокращается, редуцируется до понимания нового зрителя. Но сначала его нужно было как бы немножко угадать. Это тоже интересный вопрос. Ведь этого нового зрителя, на самом деле, не знали. Не очень было понятно социологически, кто сидит в зале. К слову — какие-то опросы на эту тему проводились. Какая-то попытка учесть процентное соотношение тех, кто представлен среди публики, существовала. Я находила в прессе того времени очень интересные и неожиданные для нас соотношения. Рабочих и крестьян было в зале не так уж много. Значительный процент — служащие. Этого нового зрителя пытались, с одной стороны, угадать, с другой стороны — сформировать. И результатом этого процесса стала песенная опера, к которой, я считаю, тоже надо относиться гораздо более объективно. Это все-таки был определенный эстетический феномен со своей конвенцией со зрителем. Во многом обусловленный влиянием кинематографа, который тоже был песенным. Отсюда — значительное упрощение оперных форм и значимость песенной интонации. Песенная опера имела своего зрителя, свои адрес, отклик, историю. 30-е — 40-е — 50-е годы — безусловно, период успеха этого жанра. И этот успех был — не только сверху спущенный.
Но молодой советской культуре нужен был советский композитор. Точнее — революционный композитор. А где его взять? Его нет, не родила еще эпоха. «Давайте назначим Скрябина». Но оказывается, что Скрябин слишком эротичен. И мистичен. И от этих привычных коннотаций его невозможно оторвать. А эротика и мистицизм — это то, с чем невозможно мириться в новых обстоятельствах. Хорошо, Скрябина быстро отодвинули. И тогда временно, как определенную подмену, революционным композитором назначают Бетховена. Тут еще два его юбилея подоспели: 1920 год — 150 лет со дня рождения, 1927 год — 100 лет со дня смерти. Оба юбилея проектировались с большой помпой. То, что в результате случилось, — это некоторый пшик: празднование не состоялось в том объеме, в каком планировалось, Бетховен оказался не вполне апроприирован. Он вроде революционный, но не совсем пригодный к использованию. Нужен «советский Бетховен», подправленный, улучшенный. И поэтому советские композиторы пишут одну за другой симфонии с хоровым финалом — по типу Девятой Бетховена. Наверное, десяток подобных опусов можно назвать, в том числе Вторую и Третью симфонии Шостаковича. Это же не случайное совпадение. Это именно определенная кантатно-ораториальная модель, которая должна была стать советской симфонией.
— И все же: можно или нельзя менять замысел автора произведения — этот вопрос сейчас стоит острее, чем раньше?
— Да, этих разговоров сейчас много. Но есть очень простая логика. Никто не может поручиться, что он точно знает, как хотел автор. Боюсь, что автор утрачивает право на свое произведение, как только выпускает его из рук. Это как родитель, который ребенка родил, воспитал, что-то ему внушил, а над дальнейшими преобразованиями не властен. Дальше идет самостоятельная жизнь, и чем она более самостоятельная, тем лучше. Когда кто-то хочет, чтобы произведение было поставлено или сыграно так, «как когда-то автор написал», то просто не понимает, что это по природе вещей невозможно! Просто потому, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку.
— Обычно под «так, как автор написал» на самом деле имеется в виду «так, как было в моем детстве».
— Конечно. И почему-то этот человек приватизирует право на понимание того, что автор сказал и что он думал. Полагаю, что автор вообще не до конца понимает, что он говорит. Очень часто автор — это просто антенна. Конечно, от его ремесленных качеств сильно зависит, чтобы передача была точной. Но все равно передает он что-то, лишь частью чего является. У меня была очень близкая дружба со вдовой Даниила Андреева Аллой Александровной. Я хотела понять: как возможно было написать книгу с таким количеством выходов в мировую культуру, как «Роза мира»? Не имея под рукой ничего. Даниил Андреев же писал ее в камере Владимирской тюрьмы. Какой надо было быть интеллектуальной глыбой! Какое хранилище в голове должно было быть! А она с таким легким намеком мне отвечает: «А ведь ничего этого не было. Понимаете, то, что он написал, было все равно больше, чем он». Это она говорит о человеке, которого боготворила, любила, знала. Но она за ним чувствовала некий «сквозняк вечности».
Или замечательный есть в Лейпциге памятник Вагнеру — карлик, который отбрасывает громадную тень. Да, это был маленький человечек. Голос — теноришко. А какова тень! В том числе и черноту она тоже отбрасывала. Я думаю, то, что нами до сих пор не разгадано, мы пытаемся разгадать, всматриваясь в тексты. Они — как какая-то кардиограмма, какое-то свидетельство того большего, что стоит за их авторами. Но все равно мы догадываемся, что равенства между творцом и творением нет и быть не может.
Поэтому мне кажется, что говорить о каком-то соответствии современного исполнения оригиналу можно только по части соблюдения буквы. Сейчас существует такая практика: в оперных произведениях нежелательны купюры, очень большое внимание уделяется выбору редакции, смешивать их не принято. Контаминации не в чести — даже если автор сам давал санкции на то, чтобы использовать контаминированную редакцию. Например, я почти каждый год бываю на россиниевском фестивале в Пезаро. Там неукоснительное правило при обращении к произведению — учитывать, что Россини написал для такого-то города такую-то версию. Или другой случай с Шостаковичем, над новым полным собранием сочинений которого я много работаю как научный редактор. Вот, допустим, мы выпускали том «Катерины Измайловой». И надо было разобраться с этой второй редакцией оперы «Леди Макбет Мценского уезда». Которую, кстати, кто-то считает вообще другим произведением. И вот парадоксальная ситуация! Сам автор хотел, чтобы исполняли вторую редакцию, причем заявил это очень жестко, в письменной форме. Настаивал на этом, когда Ла Скала хотел ставить первую. И можно сказать, что целый ряд изменений, сделанных во второй редакции, пошел на пользу словесному тексту. Он тоже небезукоризненный, но очень многое из того, что резало ухо в первой редакции, там устранено. Написана новая музыка некоторых симфонических антрактов. Явно автор, когда ее писал, не идеологическими соображениями руководствовался. Видимо, он считал, что эта музыка будет лучше. Но тот факт, что во второй редакции устранена эта знаменитая двухминутная сцена изнасилования (или «порнофонии» — как писали американские критики), фактически обязывает сегодняшних исполнителей выбирать первую. Не странно ли это? Ну вот так.
Хотя еще задолго до появления второй редакции не во всех постановках был этот кусок. На него посягали и раньше.
— В 30-е годы?
— Да. Я видела клавир, где эти страницы красным перечеркнуты. Для Шостаковича и тогда это был сложный момент. Возможно, именно из-за этого опера не была в те годы принята к постановке в Свердловске. Безо всякой цензуры сверху. Обсуждая этот материал на встрече с музыкантами, он услышал этот вопрос от оркестранта — об излишней эротике. Этим словом тогда мало пользовались, говорили — половой акт на сцене. И он уже тогда почувствовал какое-то сопротивление — даже не публики, а музыкантов.
Понятно, что, когда выбирается первая редакция, это такой своеобразный афронт. Который, правда, сегодня уже является мейнстримом. Вроде как мы пытаемся восстановить историческую справедливость. Вот Шостакович под давлением был вынужден сделать вторую редакцию. Но там было не только давление. Там были какие-то изменившиеся его собственные эстетические критерии тоже. Он, как и многие другие композиторы, очень многое делал искренне из того, что сейчас нам кажется результатом внешних обстоятельств. Потому что это люди, живущие в эпохе, в политике, имеющие какие-то свои взгляды, вынужденные к чему-то приспосабливаться, во что-то поверить. Эта мимикрия — часть социального выживания.
— Возможна ли музыка вне политики?
— Возможна, конечно. Но ее интерпретация, то, как она входит в культуру, — здесь, я думаю, уже сложно без этого отпечатка остаться. Музыка все время испытывает на себе власть каких-то интерпретаций. В этом смысле необычайно, несоразмерно велика была роль музыковедения в советское время. Ему была делегирована важная идеологическая задача — присваивать смыслы, давать какой-то интерпретационный код. Не только публике, но и исполнителям. Когда постоянно твердят, что Бетховен — это героический композитор, то усваивается определенная эстетическая парадигма. Что Бетховена надо исполнять так, а не эдак. Подчеркивая в нем определенные свойства. И я думаю, что мало кто мог избегнуть этого внушения.
— Когда, скажем, «Унесенных ветром» снимают с показа, чтобы вернуть с правильным дисклеймером, или Отелло запрещают красить в черный цвет, нам, людям с советским прошлым, это сразу напоминает родную вульгарную социологию. Это и правда то же самое?
— Это различные изводы одного и того же, конечно. Советские моменты с этим вполне коррелируют. Я думаю, что об этом надо говорить объективно, исторично. Советское не было каким-то особым феноменом. Оно существует типологически в определенный исторический период и обладает сходством с другими историческими эпохами и регионами. Советская эпоха, конечно, своеобразная, в ней масса особенностей, но она не более странная, чем любая другая большая историческая эпоха. Вообще надо сказать, что на Западе очень много сделано в этом отношении. И от довольно одиозной советологии они за последние 10–15 лет перешли к очень серьезному, академическому и объективному изучению этих процессов.
— Получается, что в современной культуре одновременно существуют такие противоположные явления, как редукция классики и стремление к максимальному аутентизму. Как это возможно?
— Это может сочетаться самым неожиданным образом. Вот смотрите, что происходит в оперном театре. Выбор определенной редакции говорит о стремлении к аутентичности текста. Дальше нам пускают титры — не эквиритмический, а подстрочный перевод. То есть мы можем отследить каждое слово. Кажется, так полно и аутентично мы еще никогда текст не получали. И параллельно — режиссура, которая редуцирует смыслы. Сводит их к актуализации, к какому-то набору определенных, часто омассовленных формул. Вот вам, пожалуйста, ситуация, при которой классика продолжает отстаивать себя на новых рубежах новыми способами. Она очищается. И одномоментно с ней происходит редукция. И у нас в голове возникает интересненькое такое смешение. Когда временны́е, хронологические, психологические обстоятельства, сообщаемые музыкой, титрами, стилистикой, сюжетом, вступают в странное соотношение с тем, что у нас в то же время их отнимают. Понимаете, какая история?
Я не хочу говорить об этом ни плохо, ни хорошо. Сам по себе факт, что опера была актуализирована, для меня ничего не значит. Потому что сегодня это рядовая акция. Имеющая за собой очень длинную историческую традицию. Для меня только важно, хороший это спектакль или плохой. Воздействует ли он на меня, складывается ли в некое единство? Не настолько непротиворечивое, чтобы я к нему не возвращалась. Потому что я хочу к нему возвращаться. Я хочу, чтобы у меня оставались вопросы и некоторые смысловые несмыкания. Но при этом должно быть такое количество смыканий, чтобы я хотела вернуться и разгадать.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда
12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея
11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»
2 марта 2022
18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам
Все новости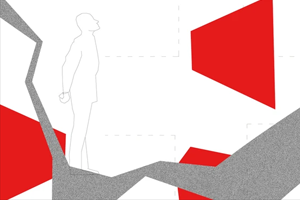 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонтали Вокруг горизонтали
Вокруг горизонтали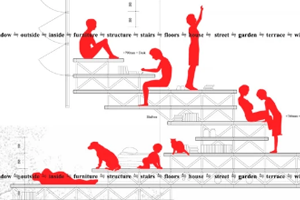 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиВведение в самоорганизацию. Полина Патимова говорит с социологом Эллой Панеях об истории идеи, о сложных отношениях горизонтали с вертикалью и о том, как самоорганизация работала в России — до войны
15 сентября 202257818 Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials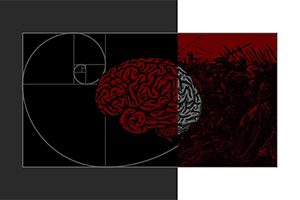 Общество
ОбществоФилософ Мария Бикбулатова о том, что делать с чувствами, охватившими многих на фоне военных событий, — и как перейти от эмоций к рациональному действию
1 марта 202218728 Общество
ОбществоГлеб Напреенко о том, на какой внутренней территории он может обнаружить себя в эти дни — по отношению к чувству Родины
1 марта 202218258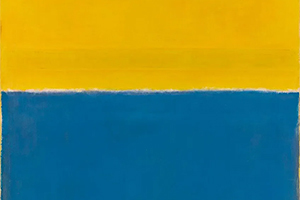 Литература
ЛитератураАнгло-немецкий и русско-украинский поэтический диалог Евгения Осташевского и Евгении Белорусец
1 марта 202217747 Общество
Общество Colta Specials
Colta Specials Театр
Театр Литература
Литература