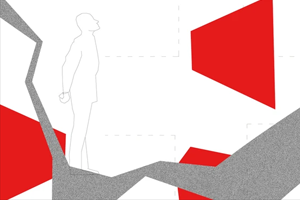 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиКак заработать самоорганизованным сообществам
15 декабря в Московском музее современного искусства на Петровке открывается подготовленная Политехническим музеем, ММСИ и Литературным музеем выставка «200 ударов в минуту. Пишущая машинка и сознание ХХ века». Глеб Морев попросил куратора выставки Анну Наринскую вспомнить о том, что значила пишущая машинка для русской культуры, и рассказать, как будет устроена выставка о ней.
— В вашем выставочном проекте интересно соединение пишущей машинки, которую мы все отлично помним, и музея. Вещь, что еще недавно была в нашем повседневном обиходе, была необходимым инструментом работы, спустя совсем непродолжительное время оказывается предметом музейной экспозиции. Насколько тяжело делать музейную выставку о предмете, который еще совсем недавно не имел музейного статуса?
— Тут два ответа. Один такой: очень легко! У большинства людей пишущая машинка — несмотря на то что порождала она не только, к примеру, прекрасные стихи и любовные письма, но и доносы и даже приказы о расстрелах — вызывает какой-то ностальгический пароксизм умиления.
Например, как только я эту выставку придумала, я решила опробовать свою идею на Александре Бродском, которого обязательно хотела видеть участником этой выставки. При этом я понимала, что мне придется его долго уговаривать, буквально умолять. А он вдруг говорит: «Ой, пишущая машинка, ах, помню, как я…» — и начинает предаваться воспоминаниям. И такова была реакция большинства людей, которых я просила что-то сделать: Кирила Асса и Нади Корбут, сделавших замечательный дизайн выставки, Алексея Айги, написавшего для нас музыку, художников, архивистов — всех. Так что привлечь участников было легко.
Другой ответ такой: очень трудно. Потому что, когда я предложила директору Политехнического музея Юлии Шахновской эту идею, она не только согласилась и как-то невероятно оперативно перевела меня из регистра интеллигентской болтовни в хоть какую-то конструктивность, но и забраковала мою первоначальную идею. У меня сначала была идея скорее небольшой инсталляции, а не выставки. Но Шахновская сказала, мол, делаем — так уж делаем.
А вот сделать большую, информационно содержательную выставку про пишущую машинку трудно. Потому что в ее случае бытовое от культурного отрывается с большим трудом. В некоторых случаях их не надо разрывать. Но в некоторых как раз надо. Наша выставка проходит в здании ММСИ на Петровке, это бывшая усадьба, там анфилада залов — и вот исключительно соблазнительной вещью было сделать декорацию коммуналки. Много разных комнат — и в каждой комнате декорация одного из видов бытования пишущей машинки. Здесь у нас кабинет писателя, здесь машбюро, здесь кабинет следователя… Был такой соблазн — сделать из этого такой аттракцион. Но наша задача все-таки совершенно другая. Мы говорим не о предмете быта, мы говорим об инструменте формирования культуры целого столетия.
 Анна Наринская© Анна Шмитько
Анна Наринская© Анна Шмитько— Словом, вы представляете пишущую машинку не как памятник истории техники, а как, что называется, семиотический объект со всеми значениями, проистекающими из его функционирования не просто как приспособления для печати, а как предмета, порождающего смыслы в процессе рождения ли текста, человеческой ли коммуникации вокруг него и так далее. Как вы экспозиционно решили эту проблему?
— Наша идея была показать машинку в самых разных культурно-исторических контекстах. Машинка и писательство, машинка и протест, машинка и цензура, машинка и искусство, машинка как предмет ностальгии.
Тут важно сказать, что это не выставка пишущих машинок, а выставка пишущих машинок, машинописи, искусства, сделанного на пишущей машинке, и искусства «о пишущей машинке».
В нашей истории машинка воплощает абсолютно противоположные вещи. Это метафора творчества, медиум, даже звук ее — «тень сонат далеких тех», как пишет Мандельштам. И орудие уничтожения — орудие доносчика, дающее ему анонимность. В отличие от компьютера или в отличие, наоборот, от комплекта ручка плюс бумага — это только буквы, никаких вариантов, ты можешь только напечатать буквы — и все. И они могут стать чем угодно — чем-то прекрасным и чем-то ужасным.
Особенности нашей культуры и истории — та самая наша литературоцентричность и опыт цензуры и попыток ее преодоления — создали у нас культ пишущей машинки. То есть с ней, конечно, везде носятся. Хотя бы потому, что это очень красивая вещь. Но как у нас — нигде.
— Ты упоминала музыку Алексея Айги. Это какого рода произведение?
— Если просто даже погуглить упоминания пишущей машинки в русской литературе, на первом месте выпадет упоминание ее звука. Ее сравнивают как раз с музыкой, как Мандельштам, со стрекотом пулемета, как Пантелеев, с градом, как Ильф и Петров…
— «Рифм сигнальные звоночки…»
— Да, у Ахматовой. Вообще, подумай, писание из дела абсолютно бесшумного вдруг внезапно стало делом достаточно шумным и довольно ритмичным: бац-бац-бац. Мне очень хотелось это как-то предъявить. Я вообще поклонница Айги, ну и, кроме того, мне показалось, что ему будет это интересно. И он написал прекрасное произведение для пяти пишущих машинок!
— В качестве инструментов выступают машинки?
— Только машинки! И все машинки исторические.
— А в качестве исполнителей?
— Его музыканты из «4'33"». А Айги дирижировал.
 © Анна Шмитько
© Анна Шмитько— Ты уже сказала, что для истории машинки очень важны любовная мифология, связь с человеческими отношениями вокруг нее, образ обслуживавшего машинку человека, а это в основном была девушка, женщина. Машинка становилась своего рода медиумом, предметом, сближающим двух людей...
— Исключительно сближающим! Тут как раз очень сложный момент. Когда разрываешься между некоторой фривольностью и, наоборот, сдержанностью. Действительно, несть числа писателям, женившимся на машинистках или имевшим с ними бурные романы, или, наоборот, жена писателя становилась машинисткой. В общем: машинка, женщина, писатель — это соединение, порождающее любовь. Но ужас состоит в том, что наша история не дает этому быть такой развеселой, прелестной вещью. Не буду об этом подробно рассказывать, но у нас были с Кирилом и Надей планы инсталляции про машинисток такого кокетливого, даже эротического свойства. Но когда читаешь истории этих всех машинисток… Жена Гроссмана, например, напечатала 1300 страниц «Жизни и судьбы». Это огромный труд! Мы выставляем авторскую машинопись «Жизни и судьбы» — это невероятно, это как тюки таскать. И вот чем все это кончилось? Роман арестован, автор не выносит этого горя и умирает через три года, друзья их предают и так далее. И вот как-то не очень это все клеится с какими-то амурчиками.
И даже в самых благополучных случаях — например, Серафима Суок, она сначала была гражданской женой Олеши, потом последовательно женой Нарбута, Харджиева и Шкловского. Причем женой Шкловского она стала как раз по ходу печатания ему произведений. Это была действительно такая, скажем, игравшая сердцами писателей женщина. Но все эти судьбы вокруг нее, даже при том что они не трагические — все же счастливыми их никак не назовешь. Так что из этого нельзя сделать такие «два притопа, три прихлопа». Просто не дает история, частью и даже катализатором которой была эта вещь.
— Понятно сегодня, что машинка окончательно ушла в прошлое, это отживший свое предмет. Есть ли ощущение, что выставка окажется посвященной какому-то окончательно, безвозвратно ушедшему в прошлое этапу русской культуры?
— Почему ж? Вот самиздат сейчас — очень актуальная вещь. Он, может быть, принимает какие-то другие формы, но сама концепция самиздата сейчас здесь актуальна практически как когда-то давно. Конечно, «“Эрика” берет четыре копии» — эти слова страшно захватаны, но вообще-то это ощущение, что вот есть круг людей, которые объединены литературой, знанием каких-то текстов, и эти тексты являются таким вот тайным знанием, — разве это ушло? Это, по-моему, исключительно процветает!
Александр Гинзбург (мы показываем возвращенный ФСБ архив его журнала «Синтаксис», когда-то изъятый) вспоминал, как мысль о журнале пришла ему в голову: он подумал — раз есть машинка, все, можно делать журнал! Вот это ощущение, что раз у тебя есть доступ к буквам — у тебя есть сила, ты можешь что-то делать, — разве это куда-то делось? Причем в России это вообще не отменялось, потому что перестройка давала ровно это же ощущение, только это был веселый доступ к буквам, сейчас это, может быть, грустный доступ к буквам. Ну или опасный.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда
12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея
11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»
2 марта 2022
18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам
Все новости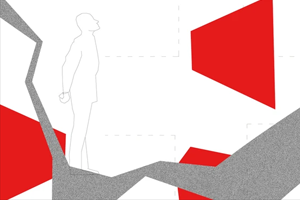 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонтали Вокруг горизонтали
Вокруг горизонтали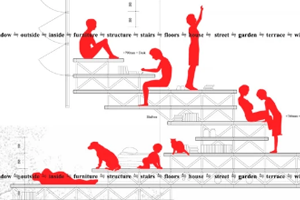 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиВведение в самоорганизацию. Полина Патимова говорит с социологом Эллой Панеях об истории идеи, о сложных отношениях горизонтали с вертикалью и о том, как самоорганизация работала в России — до войны
15 сентября 202257905 Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials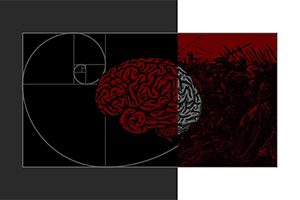 Общество
ОбществоФилософ Мария Бикбулатова о том, что делать с чувствами, охватившими многих на фоне военных событий, — и как перейти от эмоций к рациональному действию
1 марта 202218850 Общество
ОбществоГлеб Напреенко о том, на какой внутренней территории он может обнаружить себя в эти дни — по отношению к чувству Родины
1 марта 202218365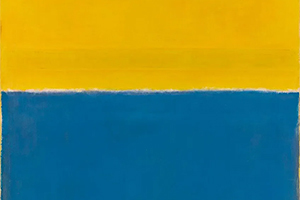 Литература
ЛитератураАнгло-немецкий и русско-украинский поэтический диалог Евгения Осташевского и Евгении Белорусец
1 марта 202217870 Общество
Общество Colta Specials
Colta Specials Театр
Театр Литература
Литература