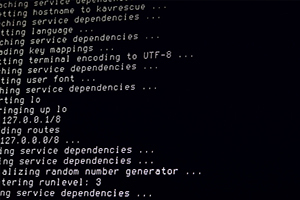В ноябре в Петербург на торжества, посвященные вручению Премии Аркадия Драгомощенко, приезжал классик американской поэзии Майкл Палмер. Переводы его текстов, сделанные Аркадием Драгомощенко и Александром Скиданом, вышли в серии «Новые стихи» издательства «Порядок слов». Кроме того, к своему приезду Майкл Палмер написал речь — открытое письмо в Санкт-Петербург, его фрагменты можно прочесть здесь. Елена Костылева и Александр Скидан поговорили с Майклом Палмером о его методе письма и о том, как происходило взаимное влияние «языковой школы» и советской неофициальной поэзии круга Драгомощенко. Беседу записал и перевел Иван Соколов.
Елена Костылева: Когда вы впервые услышали об Аркадии Драгомощенко?
Майкл Палмер: Я услышал о нем от Лин Хеджинян. Она первая познакомилась с кругом неофициальных поэтов, когда в 1983 году приезжала сюда вместе с мужем, саксофонистом, который выступал с оркестром в Петербурге и в Москве. Знакомые спросили ее, с кем она хотела бы познакомиться из литературного мира, и она сказала, что с кем-то из неофициальных поэтов. Она никого не знала. Так она встретила Аркадия. Вернувшись в Америку, она рассказала мне о нем. Она сразу стала учить русский язык, а потом некоторые поэты приезжали к ней в гости в Америку — еще тогда, в конце восьмидесятых. Аркадий, например. Были поэтические чтения в Сан-Франциско, завязались отношения. В частности, я познакомился с Алексеем Парщиковым. Насколько я помню, я впервые встретил его не в Америке, а на пароме из Хельсинки в Стокгольм, где мы с ним изрядно набрались…
Александр Скидан: Понимаешь, да? Это была та самая знаменитая встреча пяти американских и пяти советских поэтов в 1990 году.
Палмер: Лин рассказала мне о тех поэтах, с которыми она познакомилась, а я познакомился с ними во время этой встречи «пять на пять». С русской стороны были Аркадий Драгомощенко, Алексей Парщиков, Илья Кутик, Иван Жданов и Надежда Кондакова. С американской стороны были поэты «языковой школы», кроме нас с Лин — Кит Робинсон, Кларк Кулидж и Джин Дей. Это были «перекрестные» чтения, я переводил стихи Алексея Парщикова, кто-то еще — стихи Ивана Жданова….
Костылева: Та встреча, о которой вы говорите, «пять на пять» — это ведь было официальное мероприятие, да?
Скидан: Да, Хеджинян и Драгомощенко отвечали скорее за концептуальную сторону, но организацией больше занималась Надежда Кондакова, она была членом Союза писателей.
 Аркадий Драгомощенко, 1987 г.
Аркадий Драгомощенко, 1987 г.Палмер: И, по-моему, часть бюджета также поступила от американского правительства. Нечасто от них этого дождешься, так что в этом была своя прелесть. Организовать все это было очень сложно, визы мы получили буквально в последнюю секунду. Но сама поездка была по-настоящему впечатляющей. Сначала мы отправились в Швецию — у нас были чтения в королевском дворце, потом — Финляндия, целая серия чтений, выступлений, о которых газеты писали в передовицах. Все тексты, разумеется, были переведены на шведский и финский. И затем уже в Хельсинки мы сели на поезд в СССР. Кроме всего прочего, на нас лежала нелегкая миссия — мы везли в подарок Аркадию гигантский, тяжеленный компьютер. Это усложняло передвижения — было ясно, что если оставишь компьютер где-то хоть на секунду, то его тут же украдут. Я хорошо помню, как мы тащили его через весь Хельсинки на вокзал. Мы очень волновались, для нас поезд из Финляндии в Россию был связан с исторической поездкой Ленина. Мы зачарованно смотрели на этот локомотив, который вез Ленина, а русские поэты говорили: «Да чего вы на это уставились, тут только пьяницы ошиваются». Наши приключения только начинались — мы остановились в гостинице «Советская» в корпусе для иностранцев…
Скидан: Сегодня она называется «Азимут».
Костылева: Видно, никто больше не хочет ехать в гостиницу с таким названием, «Советская».
Палмер: Да, это было, конечно, очень сложное время. Я хорошо помню пиршество, которое мы устроили на квартире Аркадия, — это было возможно только благодаря тому, что мы специально привезли с собой еду из Финляндии. А один раз нам удалось пообедать в гостиничном ресторане, куда иностранцев не пускали. Мы дали взятку, 10 долларов, и наконец-то пообедали по-человечески. Иностранцев почему-то просто так кормить не хотели, и нам приходилось каждый день искать себе пропитание. По запаху в лифте мы пытались угадать, на каком этаже нам выйти, чтобы найти еду... Не каждое утро удавалось позавтракать. Пару раз удалось пообедать в валютном ресторане.
Костылева: Для Аркадия все это, конечно, имело большое значение. Всю свою жизнь он существовал на совсем небольшие деньги, поездки для писателей, резиденции были редкостью, поэтому я могу себе представить, что даже с этой стороны — со стороны жизни — эта встреча была для него важной, это был настоящий праздник. Вино, беседа, дружба очень много для Аркадия значили, он очень это все любил.
 Майкл Палмер, Сан-Франциско, 90-ые гг.© Getty Images
Майкл Палмер, Сан-Франциско, 90-ые гг.© Getty ImagesПалмер: Да, мы не раз заставали его общающимся со студентами в местном баре в Америке.
Скидан: Тем же отличалось и его преподавание в России, в Смольном институте. Учебная пара у Аркадия часто делилась пополам: первый час проходил в аудитории, а второй — в расположенном по соседству баре либо просто в прогулках с бутылкой вина.
Костылева: Но, наверно, было бы здорово перейти от разговора об Аркадии к разговору о вас, Майкл.
Палмер: Спрашивайте что угодно.
Костылева: Понятно, что это очень общий вопрос, все поэты отличаются друг от друга, и их самоощущение — тоже. Но какое значение имеет сегодня в Америке поэзия, фигура поэта?
Палмер: В узких кругах поэт — это значимая фигура. Но в общем и целом к поэзии относятся со смесью приятного удивления и презрения. Для большинства американцев поэзия как проект, в общем-то, бессмысленна — а потому непонятна. Она бессмысленна с коммерческой точки зрения, почти не проявляет свое присутствие. Нельзя сказать, что поэзия в США не имеет никакого значения: существует своя поэтическая культура, и она вполне значительна, но тем не менее она никогда не становилась частью общественного, национального дискурса, как, например, во Франции.
Костылева: Вы имеете в виду, что о поэзии не говорят на телевидении?
Палмер (смеется): Не-е-ет… Может быть, если вы — абонент какого-то специального телеканала, посвященного культуре… Если поэт зарежет свою жену, тогда он ненадолго попадет в новости. Для широкой публики фигура поэта — образ скорее карикатурный. Единственное место, где это не так, — это сообщество афроамериканцев.
Костылева: Почему?
Палмер: Потому что они относятся к поэзии как к инструменту социального прогресса, для них это общественная вещь и духовная ценность. В этом комьюнити живы традиции устной поэзии, мощь афроамериканской лирической традиции, поэтому они по-прежнему чувствуют ее энергию — а это понятно каждому, на это легко откликаются читатель и слушатель. Но это, конечно, огрубляющее обобщение.
Костылева: И все же в вашей жизни, в Америке, как ощущает себя поэт сегодня? Так же, как Аркадий в Советском Союзе, — или по-другому?
Палмер: Понимаете, нельзя сравнивать то, как жили мы и как жили советские неофициальные поэты. Наши обстоятельства невозможно сравнивать. У американских поэтов всегда оставалась возможность заработать себе на жизнь — пусть это были занятия, не имеющие отношения к литературе и поэзии, но тем не менее мы многое могли себе позволить. Аркадий же жил на очень скромные деньги и, в принципе, постоянно нуждался. Но при этом мы сразу почувствовали, что и Аркадий, и его друзья-поэты были легендарными фигурами для андеграунда. Ничего подобного в Америке мы с Лин не испытывали, мы были никем.
 Майкл Палмер на презентации книги «Под знаком алфавита»© Александр Макаров (Низовский)
Майкл Палмер на презентации книги «Под знаком алфавита»© Александр Макаров (Низовский)Костылева: То есть у андеграундного поэта в Советском Союзе был «символический капитал».
Палмер: Да, это напоминает мне известный анекдот о матери Маркса, такой классической еврейской мамаше, которая писала своему сыну: «Дорогой Карл, ты так много пишешь о капитале — не пора ли тебе попробовать самому немного заработать?»
Когда мы встретились с Аркадием и его кругом, первым и самым важным чувством, которое мы испытали, была безграничная симпатия друг к другу. Мы все понимали значимость нашей встречи — и хотели стереть границы между нашими странами, потому что официально мы были друг другу врагами, американские поэты должны были рассматриваться советскими как враги, миф о «советской угрозе» был в сознании американском. Мы же ощущали себя скорее какими-то учеными, принадлежащими к мировой науке, для которых такие границы просто неприемлемы. Сама возможность диалога имела огромное символическое значение. Конечно, наша встреча не имела никакого воздействия на политическую ситуацию. Ну а когда вообще поэзии удается что-то изменить?.. Бывают, конечно, исключительные случаи — как, например, палестинский поэт Махмуд Дарвиш, ставший настоящим голосом угнетенного народа; благодаря этому поэту мир узнал о проблемах палестинцев, и при этом он — действительно замечательный поэт, однако такое бывает очень редко.
Но, Саша, как вы правильно заметили на нашем поэтическом вечере, во многих смыслах у нас с Аркадием и его кругом не было ничего общего. Кроме общей убежденности в том, что поэзия всегда есть некий вызов. И это главное. Я чувствовал, что советские поэты борются за то, чтобы — вопреки государственному давлению, стиравшему индивидуальность, — утвердить субъективное желание. За убеждение, что человек сам по себе может быть предметом интереса искусства. В этом была ирония ситуации: мы, американские поэты, настолько уже привыкли к этому, американская поэзия тех лет была как раз переполнена нарциссическими изъявлениями собственных чувств. Нас скорее интересовала возможность коллективного действия — но советские коллеги и слышать об этом не могли.
Конечно, нас объединяли любовь, желание писать поэзию, понимание того, что поэзия — это, может быть, главная вещь в нашей жизни. Но, как я уже сказал, мы, возможно, совсем не понимали друг друга — да и не могли бы понять в силу кардинально разного опыта. Существование поэта в Советском Союзе могло быть нами осознано интеллектуально, но оно было совершенно непостижимо на чувственном уровне, мы не могли представить себе то, что они пережили.
 Елена Костылева© Александр Макаров (Низовский)
Елена Костылева© Александр Макаров (Низовский)Костылева: Какой «вызов» вы имеете в виду, когда говорите о поэзии?
Палмер: Это вызов, на который невозможно ответить. И это один из источников нашей скорби — и нашей печали.
Костылева: Аркадий писал о том, что поэзия есть интеллектуальный вызов. Обрести собственную поэтику — сложнейшее дело, но для него это была именно интеллектуальная задача. Кажется, это и объединяло его с поэтами «языковой школы».
Палмер: Конечно, поэзия — это интеллектуальный вызов. Но поэзия есть поэзия, ее вызов — прежде всего эмоциональный. Если поэт разрабатывает какую-то исключительно интеллектуальную поэтику, которая строится на чистом теоретизировании, он быстро превращается в университария, в академика. Это случается время от времени. Мне кажется, Аркадий бы согласился со мной в том, что по-настоящему интеллектуальный вызов поэзии — пересмотреть критически то, что уже было сделано до тебя, и открыть какое-то новое пространство для будущего. Для этого нужно, чтобы было вовлечено тело — и желание во всех его формах, эротическое, желание как голод, желание съесть кусок пирога. Без этого поэзия, конечно, бессмысленна. Я уже почти сорок пять лет сотрудничаю с одной танцевальной труппой, и это взаимное партнерство часто напоминает мне о том, что поэтическая речь — это еще и речь тела. Это вопрос дыхания. И если мы игнорируем это, забываем об этом, то мы теряем одно из важнейших измерений поэтического высказывания.
Костылева: Мне хотелось бы выразить вам отдельную благодарность за речь, которую вы прочитали на своем вечере. Она показалась мне необычайно близкой — я узнала себя, свой метод в том, что вы говорили.
Палмер: Должен сказать, что, когда меня пригласили в Петербург, я сразу же понял, что не стану читать какую-то обычную скучную лекцию. Поэтому то, что я прочитал, были просто разрозненные записи, которые я заносил время от времени в тетрадку. Я не записывал их в окончательном виде, потому что для меня очень важен момент импровизации. Я хотел говорить, исходя из своего реального эмоционального состояния, того, каким оно было в момент письма. Конечно, это рискованная техника, можно впасть в бесконечное самооправдание, психотерапию в том смысле, что ты не можешь предъявить законченный текст, но этот момент импровизации, возможность прислушаться к тому, что ты сейчас чувствуешь, для меня всегда важен.
Скидан: Действительно, ведь и ваша «Датская тетрадь» — это вроде бы дневник. Но не совсем. Это производит чрезвычайно живое впечатление: как будто бы вы не следуете никакой предсказуемой логике, но ваш текст являет скорее импульсы, соединенные по ассоциативному принципу.
 Александр Скидан© Александр Макаров (Низовский)
Александр Скидан© Александр Макаров (Низовский)Палмер: Да, это и правда похожие тексты. Важно и то, что туда попадают совершенно повседневные наблюдения.
Костылева: Которые при этом чудовищно сложно зафиксировать! Мы все время испытываем разные импульсы, но как их поймать, как зафиксировать их на бумаге?
Скидан: Наверно, для этого все равно нужна некая структура — подвижная и текучая, на которую нанизываются эти импульсы.
Палмер: Да, с одной стороны, ты размышляешь о бесформенности — но в процессе этого размышления, по мере того как ты записываешь его, прямо у тебя под рукой рождается форма. Я был поражен и рад результату, «Датская тетрадь» для меня — это воплощение телесного начала в поэзии, это текст, который написан телом. Вы читали мои работы, вы знаете, что меня вообще очень занимают разрывы, фрагментарность. В одном из стихотворений, которые я читал на своем вечере, в «Traumgedicht», возникает странное соположение дискурсов — Малер беседует с Фрейдом. В одном из своих писем к Малеру Фрейд удивляется его новой симфонии: «Меня поразил в ней небольшой фрагмент, удивительно диссонирующий со всей предыдущей музыкальной фразой». Малер отвечает ему примерно следующее: «Зиги, ты не понимаешь. Я сижу, пишу свою музыку, вдруг за окном проезжает карета, лошадь цокает по мостовой — ну так я просто взял и записал стук копыт этой лошади».
Костылева: Возвращаясь к коллективному и индивидуальному: все же кажется, что поэзия — дело одиночек. Нашли ли вы ту возможность коллективного творчества?
Палмер: Нет никакого противоречия между индивидуальным и коллективным в том смысле этих слов, который мы обсуждаем. Стихотворение — это, прежде всего, разговор, это беседа. Ты обращаешься всегда к кому-то — и твой текст открывается читателю, ждет его отклика, предлагает себя его интерпретации. Раскрываешься — это уже коллективность. В этом смысле поэзия есть противоположность диктатуре, которая не позволяет вот этого отклика. Индивидуальное не противоречит коллективному. Конечно, поэзия может вызывать и споры — как это произошло на дебатах по короткому списку Премии Драгомощенко. Иногда сообщество из-за подобных противоречий может даже распасться — но так и должно быть, сообщество и должно жить вот этими разногласиями.
Костылева: Мне было очень важно, что во время публичных дебатов на Премии Драгомощенко близкие, хорошо знакомые друг с другом эксперты озвучили диаметрально противоположные позиции по одним и тем же текстам молодых авторов.
Скидан: А я вспомнил сейчас о вопросе, который на вашем вечере задал Кирилл Корчагин: о том, не связана ли тенденция к использованию более последовательного синтаксиса, менее фрагментированной речи в ваших поздних сочинениях с неким примирением с буржуазным взглядом на мир. Следует пояснить, что Кирилл прекрасно знаком с вашими текстами и сделал интересный перевод цикла «Нить», его вопрос проистекает из глубокого знания материала и не имел целью вас задеть. Сейчас в России искусство политизируется, особенно после Майдана и аннексии Крыма, общество резко разделилось на два лагеря, и молодые авторы все чаще заговаривают об ангажированности, о необходимости встать на ту или иную сторону, причем одни требуют, а другие молчат.
Костылева: От стыда.
Скидан: Да. И надо вот еще что иметь в виду. Сегодняшний российский брутальный капитализм в сочетании с «фукольдианской» моделью общества контроля и жесткими техниками государственного правления заставляет задаваться вопросами об идеологических импликациях художественной формы, о политической роли искусства. Так что Кирилл имел в виду весь этот контекст, всю ситуацию в целом.
 Александр Скидан и Майкл Палмер© Александр Макаров (Низовский)
Александр Скидан и Майкл Палмер© Александр Макаров (Низовский)Палмер: Мне хорошо понятно, о чем идет речь. Действительно, мои ранние тексты отличаются фрагментарным, взрывным синтаксисом, тогда как в последних текстах я больше работаю с «прозрачным», расслабленным синтаксисом — однако это движение было для меня органично. Скорее, речь идет о том, что в зоне условно «конвенционального» синтаксиса мне удалось различить свою тайну, загадку, целый рой неиспользованных возможностей — и показалось, что я могу плодотворнее исследовать эту уже вроде бы покинутую зону, чем если бы я продолжал ломиться в уже достигнутые пределы. Я бы сравнил это с эволюцией мысли Витгенштейна, который в «Трактате» предпринял попытку разрушить философию — средствами самой философии, тогда как позднее он отказывается от этого чисто негативного импульса и приходит к мысли о том, что сам повседневный язык уже является бесконечным предметом исследования, бесконечной загадкой. Интересно, что есть читатели, чье мироощущение полностью совпадает с ранним Витгенштейном, они полностью доверяют его языку и мысли и оказываются совершенно разочарованы, открыв для себя позднего Витгенштейна. Для других его эволюция понятна и естественна. А третьи читатели говорят, что ранний Витгенштейн невыносим, но зато они любят его поздние работы.
Костылева: Хотелось бы еще немного спросить вас о вашем методе. Это вообще, наверно, самый интересный вопрос. Как вы пишете? Для кого вы пишете? Что вы пишете? Понимаете, здесь, в Петербурге, есть — ну, наверно, человек сто, которые читают современную поэзию. В Москве — двести. Если собрать вообще всех, получится — ну, от силы тысяч десять. И это в стране со 150-миллионным населением. Поэтому мы в некотором смысле все время спрашиваем себя: «Эй, есть тут кто вообще?» Особенно это важно для молодых авторов — я хорошо помню, как в юности почти кричала: «Эй, меня слышно?»
Скидан: Да, и в то же время мы имеем ситуацию, при которой два — да что там, три миллиона человек пишут стихи и публикуют их в интернете. И считают себя поэтами!
Палмер: Да, в США то же самое. Согласно последней статистике, в Америке два человека читают одну книгу в течение года. И двести тысяч человек пытаются сочинить собственные книги!
Понимаете, все-таки поэзия слишком специфична. Даже если мы говорим о самом простом, прагматическом существовании лирического жанра — когда любовное стихотворение пишется с совершенно практической целью соблазнить конкретного читателя или читательницу — даже в этом случае в древнегреческой поэзии стихотворение сворачивалось в свиток и запечатывалось. Это был закрытый текст, адресованный одному лицу. Но при этом его можно было развернуть и переписать стихотворение в антологию, сделав его частью мирового наследия. Поэтому читатель, этот Другой, — он всегда одновременно и один, и множество.
Когда я начал писать стихи, я стал работать в несколько другом ключе, стараясь никогда не навязывать читательнице один-единственный способ прочтения моих текстов, но предоставляя ей возможность найти собственный путь внутрь развертываемой структуры в ее воображении — и стать частью этой структуры. Поэтические журналы тех лет печатали, увы, более заурядную поэзию — там были свои милые сюжеты и сентиментальные порывы, но меня это не интересовало. Это не имеет отношения к задаче поэзии. Это не вызов, это небольшое развлечение. Поэтому меня, как правило, совершенно не интересуют так называемые любители поэзии, я просто знаю наверняка, что то, что этот «любитель» читает, — просто мусор. Я знаю также, что, если они столкнутся с моими текстами, это не принесет им никакого «удовольствия».
Костылева: Я вернусь немного назад — меня продолжает волновать вот эта проблема поэта, который кричит: «Эй, меня слышно?» Со временем у меня это превратилось в другой вопрос: «А слышу ли я сама себя?» Мне кажется, в вашей поэзии — особенно в «Датской тетради» — вы именно и пытаетесь услышать свой собственный голос.
Палмер: Да, и этого крайне сложно достичь.
Скидан: Знаете, я могу сказать о самом себе: я пишу, чтобы услышать самого себя, и письмо служит средством сконструировать необходимое для этого пространство. Я недавно прочитал любопытную книгу — биографию Андре Мальро, написанную… кем бы вы думали? Жаном-Франсуа Лиотаром. Поразительно, не правда ли? Последняя книга Лиотара — только что изданная по-русски — это биография Мальро. И в ней Лиотар приводит одно из высказываний Мальро: «Других мы слышим ушами, себя же — горлом». Так и вы в «Письме в Санкт-Петербург» цитируете Махмуда Дарвиша, который пишет, что, прислушиваясь к камню, он слышит воркование голубя, задыхающегося у него в горле. В этой связи важен и Мандельштам, для которого горло является важнейшим органом поэта. Поэтому, Лена, отвечая на твой вопрос вместо Майкла, сорри, я повторю, что поэзия создает пространство, где мы можем срезонировать с самими собой. Отправляя секретное послание Другому, мы хотим услышать себя.
Палмер: Да, действительно. В этом смысле невероятно сложной задачей является чтение стихов вслух на публике. Как часто мы читаем собственные стихи и не слышим себя, и как редко бывает, что мы попадаем в то самое дыхание. Не раз бывало, что я открывал книгу, начинал читать из нее — и не мог ни слова понять на странице. А слушатели потом говорили, что это были мои лучшие чтения. Мы не можем даже судить о собственном чтении! Иногда, когда тебе кажется, что ты нашел верный ритм, вошел в гладкую каденцию, для слушателя это не так. Зачастую «лучшие чтения» оказываются теми, когда ты потерялся, не смог найти верное дыхание, а для них в этом был истинный поиск. Мы не слышим себя.
Костылева: Если вернуться к речи, которую вы написали для Петербурга, — вы могли бы прочесть «результаты» вашего письма, но вы публикуете «процесс». Как это возможно и не является ли это проблематичным?
Палмер: Мне всегда было важно обнажить процесс письма, включить процесс создания произведения в само произведение вне зависимости от того, хорошо это будет звучать или не очень. Не скрывать его. Иногда это получалось, иногда нет. Меня никогда не интересовала «совершенная вещь», где швы не видны, мне было важно, чтобы следы процесса письма присутствовали в самом произведении.
Костылева: Почему?
Палмер: Не знаю. Наверно, это выражение какой-то человечности — честности даже. Ты не делаешь вид, что пытаешься сотворить какой-то «престижный» объект, за которым будет стоять целая история. Совершенство подразумевает самозамкнутость, как закрыты классическая живопись, скульптура, — я никогда не пытался этого достичь.
Костылева: Для вас это способ самому открыться?
Палмер: Да, конечно, да, так и есть. В жизни, в общении я куда более замкнутый человек, а письмо размыкает меня, позволяет раскрыться. Огромное впечатление на меня еще в юности произвела живопись абстрактных экспрессионистов — живопись жеста: Поллок, Марк Ротко, который не настолько жестуален, но все равно. У них я этому научился, увидел, как процесс может стать частью произведения. То же самое с нашей беседой — мы можем прерваться сейчас, а можем продолжить: она открыта.
Понравился материал? Помоги сайту!
 Общество
Общество