 В разлуке
В разлукеРазговор c оставшимся
Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен
28 ноября 202475197 Павел Сельдемиров. Проект «The Becoming». 2020© Павел Сельдемиров
Павел Сельдемиров. Проект «The Becoming». 2020© Павел СельдемировОдним из самых интересных проектов фонда поддержки современного искусства Cosmoscow этой осенью стала VR-инсталляция теоретика и художника Павла Сельдемирова под названием «The Becoming». Сельдемиров выиграл первый конкурс Audi Born-Digital Award, направленный на поддержку российских медиахудожников, и инсталляция показывалась в пространстве Audi City Moscow. Зрители попадали в своего рода петлю времени между будущим и прошлым: картины призрачного леса, наполненного порталами в другие миры, нарушались образами полуразрушенных следов повседневности 2020 года. Разросшиеся частицы коронавируса прятались в водоемах, как глубоководные мины, вода трескалась, как витрина, а в глубине чащи встречались силуэты аппаратов ИВЛ и мигали сгустки шаровых молний. Надя Плунгян поговорила с художником о философии искусства и о том, что он называет пространством возрастающей интенсивности.
— Я прочла, что итоговый вариант «The Becoming» не вполне соответствовал замыслу.
— Да, многие объекты, которые я первоначально задумал, не были созданы. Дело в том, что сжатый срок в семь недель на выполнение проекта потом сократили до четырех. Я каким-то чудом сумел сделать техническую часть, но, к моему огромному сожалению, на художественную часть осталось очень мало времени, и пришлось использовать очень буквальные решения. Хотя мне хотелось, чтобы виртуальное пространство, энвайронмент, вместило некоторую область коллективного бессознательного и не содержало буквальных образов: чтобы людей триггерило что-то, чего они, может быть, сами до конца не понимают. Но для этого надо было бы устроить поиск таких вещей.
— Получается, вам не хватило предварительной работы по выяснению того, что именно триггерит людей…
— Ведь откуда идет этот посыл? С введением карантина нас сделали изолированными, но в изоляцию мы не попали. Наоборот, эпидемия — это первое событие планетарного масштаба, каким до этого, может быть, была только Великая Отечественная война. Хотя и она не всех затронула (например, Португалию, Афганистан). А коронавирус затронул всех. Все оказались заперты в общем информационном поле с новоязом, который принесла эпидемия. Поэтому, хотя я не сторонник теории коллективного бессознательного, в какой-то степени в связи с общим информационным полем оно у нас появилось.
 Павел Сельдемиров. Проект «The Becoming». 2020© Павел Сельдемиров
Павел Сельдемиров. Проект «The Becoming». 2020© Павел Сельдемиров— Вы много работаете с темой границы, стыка цифрового и физического пространств, но вас интересует опыт физического взаимодействия с явлением. В реальности видеоигры, где физика изменена, работа с натурой всегда содержит элемент театральности и абстракции. Какие способы режиссуры пространства вам интересны?
— Вы правильно заметили: я действительно работаю с режиссурой пространства. Но именно этот стык для меня не единственный. В моей работе вся форма собрана как множество переходов между границами, и я рассказал об одном из них — о переходе между личным и коллективным бессознательным, личным и коллективным переживанием. Границу между ними человек должен переходить неосознанно: в инсталляции он или пересекает ее сам, или, наоборот, обнаруживает, что граница размыта.
— И все-таки вы часто сталкиваете реальную (объектную) и виртуальную среду. Так было, например, в проекте с красными лучами «IfRO&D (Interface for Research of Opportunity and Determination)» 2018 года, который не так давно показывался на выставке кинетического искусства в Манеже. Там за основу взят похожий прием: человек своими движениями по-настоящему меняет пространство…
— Смысл этой работы в том, что человек должен найти способ взаимодействия с предсказуемым. Она задумывалась как социальный тренажер взаимодействия с различными аудиособытиями, на которые вроде бы твое тело и твоя психика должны реагировать. Когда мы слышим музыку, мы танцуем, когда мы слышим ритм, мы под него подстраиваемся, но здесь ритм создаешь ты сам. Своими действиями. И получается такая рекурсия. Где твое действие завязано на внешнюю среду, а внешняя среда завязана на твои действия. Ставится вопрос: как мы структурируем свой день или свою жизнь? Насколько мы зависимы, насколько мы детерминированы событиями? Инсталляции — это замкнутая экология, в которой все эти процессы можно почувствовать, я просто их буквализирую.
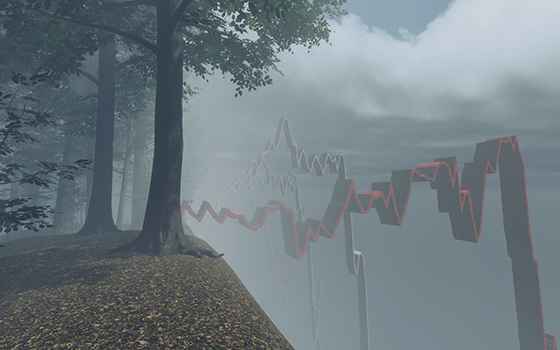 Павел Сельдемиров. Проект «The Becoming». 2020© Павел Сельдемиров
Павел Сельдемиров. Проект «The Becoming». 2020© Павел Сельдемиров— Как вы начинаете придумывать свое пространство: как активное само по себе или как сцену, открытую для случайного действия?
— Я довольно интуитивно все делаю, для меня это как собака, которая не думает о том, что она собака... На уровне «так сложилось». Никогда я не создавал медиального разрыва, чтобы взглянуть на него с дистанции. Но всякий раз я мыслю средой, мне это удобно, обычно я иду от потребности: зачем нужна среда? Потом — какой должна быть среда, чтобы она решала ту или иную задачу? Ну а бывает, что просто приходит некая структурная целостность и после я ее проверяю этими вопросами. С другой стороны, мне нравится само ощущение человека, помещенного в среду. Здесь возникает много задач: например, он целиком погружается в объект, он исключается из той среды, в которой был изначально. Среда — это не просто цвет и звук: это может быть влажность воздуха, это может быть некая вибрация, которая вначале не ощущается, но затем начинает работать на общее напряжение.
— Вы говорите про интуицию, и ваше искусство действительно основано на невербальных категориях. Но при этом все свои работы вы досконально оснащаете философской базой — ссылаетесь на Спинозу, на Делеза. Сначала это производит впечатление встраивания в норму «актуального искусства», которое цензурирует художника, требуя бесконечных концептуализаций. Но потом приходит понимание, что ваши работы подводят к новому, синтетическому, пониманию абстракции, а абстракция и философия — это же, в принципе, одно и то же.
— Но философия довольно буквальна.
— Так и абстракция буквальна — вы же сами говорите, например, о влажности или звуке. Выдернутый из натуры, человек оказывается в инсталляции как в макете, в идеальных условиях, построенных на масштабировании какого-то одного качества, одного состояния. В каком-то смысле — как в пространстве античной философии.
— Да, согласен. Это концепт. Механика концепта.
 Павел Сельдемиров. Проект «IfRO&D» (Interface for Research of Opportunity and Determination). 2019© Павел Сельдемиров
Павел Сельдемиров. Проект «IfRO&D» (Interface for Research of Opportunity and Determination). 2019© Павел Сельдемиров— Если философские отсылки определяют круг ваших интересов, я бы спросила: что вы, наоборот, считаете для себя уже как бы выработанным художественно и интеллектуально? Куда вы движетесь, так сказать?
— Мне бы не хотелось больше заниматься формализмом, когда работа не имеет «содержания». У меня есть несколько работ, которые я обычно не включаю в CV, потому что не считаю достойными внимания. Большинство их них — это просто коммерческие заказы, за которые не стыдно, но в то же время отнести их к художественной практике в полной мере я не могу: упражнения в композиции, но не более. Вот подобным больше заниматься не хочется. У меня был в жизни момент, когда ничего, кроме этого, не было. И хотя благодаря этим проектам я финансировал «IfRO&D», было ощущение, что меня совсем уносит в эту сторону и, может, оттуда будет не так просто вернуться.
Мои занятия коммерческими инсталляциями — это довольно осознанный шаг, который я сделал в школе Родченко, когда было не на что жить. У меня был трудный период, когда умерли родители: негде было жить, нечем зарабатывать, и у меня начали появляться навыки в программировании. До этого я изучал историю искусства, и я осознал, что довольно просто придумываю какие-то композиционные вещи со светом, и начал предлагать их в индустрию рекламы. Так сложилось, что это пошло, и оно меня спасло.
Делая этот шаг, я понимал, что он повлияет на то, как я мыслю свое искусство. Я не думал, что выйдет плохо. Потому что некоторые чураются аттрактивности: типа «невысокое искусство». С другой стороны, аттрактивность дает возможность неподготовленному зрителю, даже ребенку, войти в сложное произведение и уже после узнать о его глубинном содержании, о каком-то тексте, который написан на нем параллельно.
 Павел Сельдемиров. Проект «Storm Cloud». 2018© Павел Сельдемиров
Павел Сельдемиров. Проект «Storm Cloud». 2018© Павел Сельдемиров— А как вы вообще поняли, что хотите заниматься искусством?
— Это было очень давно, когда я был подростком. Я хотел заниматься кино и ради этого переехал в Москву, поступал во ВГИК, но потом отказался, потому что хорошо узнал киноиндустрию изнутри. Это такая кухня, где много людей, где задуманный проект реализуется спустя много лет, на реализацию проекта влияет продюсер, влияет тот, кто дает финансирование, влияет вся команда, а мне всегда нравилось работать одному, и это точно не подходило. После того как я отказался от мысли заниматься кино, я ушел в некоторые поиски самого себя. Чтобы не тратить время, я начал изучать историю искусства и продолжил заниматься фотографией. Фотография была коммерческой вещью, в искусстве я себя все еще искал. Я не практиковал, но я всегда искал себя интеллектуально. Была череда курсов, но в конце концов на меня повлиял курс Андрея Великанова в Еврейском музее. Это было действительно глубокое погружение: на год я ушел в историю философии и философии искусства и после этого, во-первых, понял, как я хочу, чтобы выглядело мое искусство, о чем можно говорить. А во-вторых, отказался от фотографии.
Тогда мне казалось, что то, что делает Делез, его идея о философии как создании концептов — это и есть настоящее искусство. Хотелось найти материал, который сможет с этим работать, и этим материалом стало программирование. Это материал, где слова превращаются в форму. Лучше я даже и представить себе ничего не могу.
— Пластичная форма, которая превращается в цифру и обратно в форму; лучи, которые конвертируются в музыку... Вы говорите про взаимную детерминированность, или структурность, опирающуюся на XX век, но я вижу и движение к синтезу, когда цифра — это уже и есть натура. Модернизм был миром предметов, а затем — миром концепций. Как вы думаете, куда мы из него выходим?
— Я не уверен, что все движется в каком-то одном направлении. Прежде всего, мы движемся от языка в том понимании, которое в него вкладывали в модернистский период. У нас есть смерть знака, некое радикальное сомнение в означающем, и, на мой взгляд, оно сидит достаточно глубоко для того, чтобы сделать такой переворот в сторону аффекта. Даже если посмотреть на язык политики, который сейчас существует. Это эмоциональный язык. Он совершенно не апеллирует к здравому смыслу: кажется, что мы движемся в сторону чувств, в которых не можем разобраться, или эта эмоциональность оттого, что насчет здравого смысла нет консенсуса.
 Павел Сельдемиров. Проект «Laser Grass». 2016© Павел Сельдемиров
Павел Сельдемиров. Проект «Laser Grass». 2016© Павел Сельдемиров— Современная политика принадлежит людям 1940-х — 1950-х годов рождения, для которых в центре все еще находятся военное время и события модернизма. Конечно, пока трудно заглянуть в ситуацию, где политику будут создавать современные 20–30-летние, но мне кажется, что у нее будет более сдержанный язык. Кстати говоря, ведь и весь «The Becoming» построен на этих образах тревоги разрухи, постапокалипсиса, антиутопии — не случайно вы в начале разговора сравнили пандемию с войной. Эти обломки зданий или предметы, потерявшие свое первое значение, подводят нас к теме мира после модернизма. Но они фигурируют как видения, а не как реальность. И мне ваша работа совсем не кажется эмоциональной.
— Да, она не эмоциональна. Это мое личное ощущение — когда происходит перегрузка эмоциональными вещами, как вот этот огромный 2020 год, когда на нас обрушивается автоматная очередь из различных событий, мы вдруг цепенеем и перестаем испытывать эмоции: мы просто смотрим на них. Такое коллективное ПТСР. В моей инсталляции был один объект, который меня в результате попросили убрать: в проекте был морг под открытым небом, я заменил его на больничные кровати. Напротив стоит кресло. В нем сидит зритель и наблюдает за этими событиями. Сначала все это очень сильно шокировало, а потом мы все потеряли чувствительность.
— Чего не хватает в российском искусстве?
— Кажется, что в российском искусстве все делается по шаблону. Этому учат в школах, которые устроены как ПТУ, куда приходишь и видишь систему «зачет-незачет». Никто научных работ, как в институтах, не пишет, ничего подобного не происходит, все искусство делается по знакомому сценарию. Не хватает события, движения. Авантюрности не хватает!
 Павел Сельдемиров. Проект «Place in Clouds». 2016© Павел Сельдемиров
Павел Сельдемиров. Проект «Place in Clouds». 2016© Павел Сельдемиров— Может быть, должен возникнуть полилог, что ли, когда разные художники собираются и выясняют, что же сейчас находится на острие? Институт художественной культуры?
— Если делать институт, то надо делать их несколько. Хотя, на мой взгляд, все равно это перейдет в прием. Художники сидят на приеме: можно разобрать произведение как механизм, и у тебя получается синтаксис. И потом слова меняешь просто. Подставляешь знакомый тебе синтаксис и нужные слова. Произведения так и делаются — это все, что мы видим.
— И как быть, если вы начинаете работать и у вас идет какая-то внутренняя инерция в сторону готовых схем? Как их удается отклонять?
— Бывает, придумываешь проект и понимаешь, что он вторичен. А бывает, что сразу сам его конструируешь. Сначала придумываешь один посыл, потом постепенно меняешь, добавляешь смыслы. У меня всегда проекты долгие, как минимум на год, и, даже когда возникают быстрые коммерческие работы, мне нравится возникновение слоистости. Бесконечные переходы границ из реального в виртуальное и обратно, которые придают проекту глубину. Слоистость и свобода интерпретаций. Здесь возникает некая интуиция, что появляется что-то новое.
— То есть работать имеет смысл на усложнение.
— Да, я думаю, что это верно. Простая работа тоже может быть, но ее в основном делают художники, которые занимаются тактическими медиа, ищут в капитализме какое-то место, куда надо нажать, чтобы он посыпался. Это просто прекрасно, я восхищаюсь такими людьми и их работами. Но там вот нужна какая-то очень точная простота.
 Павел Сельдемиров. Проект «Labyrinth». 2016© Павел Сельдемиров
Павел Сельдемиров. Проект «Labyrinth». 2016© Павел Сельдемиров— Понятно, что инсталляция, как и сценическое искусство, всегда как-то работает с темой времени и пространства. Но мне показалось, что у вас есть одна центральная тема — своего рода точка невозврата внутри путешествия во времени, тема необратимого поступка.
— Когда я только поступал в Родченко, у меня была такая папочка со списком концептов. Я еще ничего не умел: были только идеи, которые я хотел научиться реализовывать. И там был один проект, его идея до сих пор мне нравится. Это сквозная комната, с одной стороны вход, с другой выход. В комнате мы видим две проекции друг напротив друга. На одной показывается приоткрытая дверь. Проекция напротив показывает чашку, падающую вниз. И там возникает момент, срез такой, где ты уже заперт ровно посередине между состояниями а1 и а2. Возникает некая длительность, некая протяженность, через которую ты уже не можешь вернуться обратно.
Именно это ощущение часто у людей возникает, когда мы теряем близких, когда мы узнаем, что что-то случилось. Чаще всего мы просто не замечаем всех этих длительностей, которые нас соединяют с одними состояниями и разделяют с другими. Но когда что-то выбивает нас из привычного русла жизни, как коронавирус, эту длительность удается прочувствовать, она становится заметной. Для меня это состояние важно, и это был первый раз, когда я его отрефлексировал. Работа была придумана после смерти моих родителей, но могла быть и другая тема.
Возможно, кроме этих состояний, ничего и нет. Мир — это большой аффект: мы мыслим дискретно, наши слова обычно отображают только одну ситуацию, описывают только один момент. Всякий раз это срез. Всякий раз это снимок, отпечаток, но все находится в постоянном движении, в постоянном становлении, где остановка вообще, в принципе, невозможна.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда
12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея
11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»
2 марта 2022
18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам
Все новости В разлуке
В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен
28 ноября 202475197 В разлуке
В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым
22 ноября 202472630 В разлуке
В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах
14 октября 202474408 В разлуке
В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается
20 августа 202478530 В разлуке
В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»
9 августа 202478402 В разлуке
В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь
15 июля 202480175 В разлуке
В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым
6 июля 202480996 В разлуке
В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности
18 июня 202487317 В разлуке
В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова
7 июня 202485780 В разлуке
В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»
21 мая 202468608 Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials