 В разлуке
В разлукеРазговор c оставшимся
Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен
28 ноября 202473069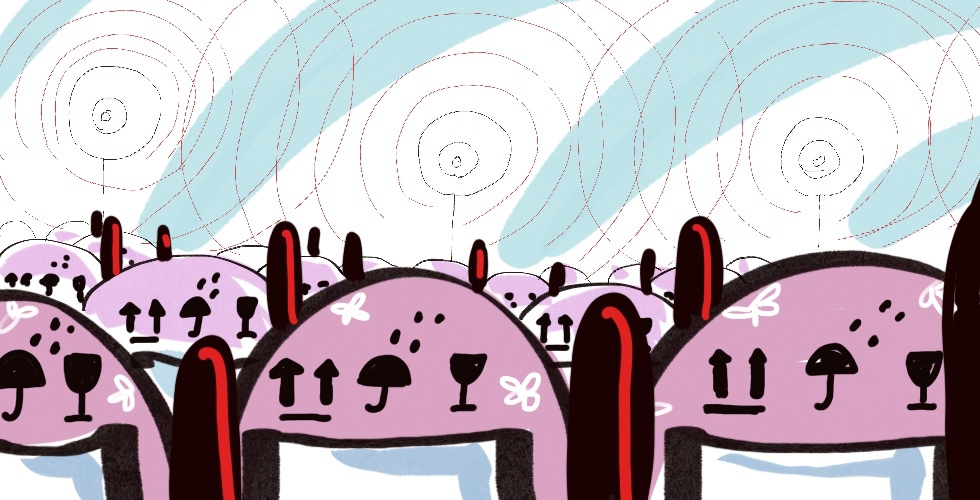 © Юлия Яковлева
© Юлия ЯковлеваРовно десять лет назад, в декабре 2009 года, редакция OpenSpace.ru — сайта, с 2012 года известного под именем COLTA.RU, — подводила итоги нулевых в форме коллективного словаря. Люди с разными профессиональными интересами выбирали по просьбе редакции одно слово, схватывающее, по их мнению, дух уходящей декады, и объясняли свой выбор.
В конце нового десятилетия, резко отменившего часть завоеваний нулевых (прочность и ценность которых, впрочем, тогда уже были под сомнением), редакция снова решила повторить тот же эксперимент. Словарь гетерогенных 2010-х, повсеместно, не только в России, объявивших войну гомогенности «постисторического» покоя, составляли, как и в прошлый раз, люди разного дела.
Если суммировать их рефлексии вокруг двух осей, ими будут два контрастных состояния: тошноты от наступившей турбулентности и энтузиазма от предчувствия нового порядка. Не случайно эти оси разделяют людей разных возрастов. Одна из трещин в однородности предшествующей декады проходит по идее слабой различимости поколений с их поздним взрослением и отложенным старением. Десятые — это время растущего разрыва между ancien régime и теми, кто приходит ему на смену.
В геополитическом смысле Россия вернулась в десятых как площадка для экспериментов с мировым масштабированием: модернизационно она догоняла, регрессивно — опережала. В эту декаду она закрепила за собой набор ноу-хау по слому рациональности (эта работа была впервые демонстрационно поручена «вежливым людям»). Мы оказались в определенном смысле в эпицентре мирового хаоса. Этот словарь пытается его хоть как-то упорядочить минимальным из средств рационального контроля: алфавитом.
Надо напомнить, что этот опыт мы проводим в рамках собственного проведения разграничительных линий: десятилетие, которое мы провожаем, было и нашим — мы работали все эти десять лет (даже десять с лишним). Эту метку мы закрепляем несколькими способами: не только подводим итоги десятых, но и предлагаем вам сделать то же — проголосовав вот здесь за героев десятилетия.
Для нас это черта и еще в одном смысле: мы собираемся перешагнуть вместе с вами в 2020-е, но для этого нам нужна ваша помощь. Техники солидарности стали одной из немногих «скреп» расползающегося по швам времени. Мы надеемся, что они сработают и здесь, — Кольте остро нужна ваша поддержка. Помочь нам можно по этой ссылке. Мы хотим наблюдать за 2020-ми вместе с вами.
Автозак (Алексей Цветков-мл.)
Аномия (Светлана Адоньева)
Воодушевление/Бессилие (Глеб Напреенко)
Закрыть гештальт (Михаил Маяцкий)
Истерика (Марина Разбежкина)
Китай (Кирилл Рогов)
Крымнаш (Михаил Ямпольский)
Куколд (Олег Кашин)
Молодость (Сергей Гандлевский)
Навальный (Елена Петровская)
Несправедливость (Евгений Гонтмахер)
Новый ЗОЖ (Максим Трудолюбов)
Нормализация (Алексей Цветков)
Обход блокировок (Илья Утехин)
Опустошение (Любовь Аркус)
Оскорбленные чувства (Юрий Сапрыкин)
Ощетинились (Артемий Магун)
Политизация (Илья Будрайтскис)
#Политизация (Глеб Павловский)
Политика/политическое (Оксана Мороз)
Полиция (Александр Ф. Филиппов)
Постправда (Максим Кашулинский)
Потрясение (Михаил Айзенберг)
Пропаганда/протест (Андрей Архангельский)
Разоблачение (Алексей Медведев)
Реакция (Илья Калинин)
Санкции (Вячеслав Морозов)
Статья (Сергей Медведев)
Тоска (обитателей тоски) (Кирилл Кобрин)
Травма (Полина Аронсон)
Феминизм (Кирилл Медведев)
Хтонь (Александр Морозов)
Частная жизнь (Евгения Пищикова)
Fake news (Василий Гатов)
Под знаком автозака прошло это десятилетие для всех живых людей в России. Десять лет назад в автозак по календарю попадали Лимонов и его парни с их «Стратегией-31». Лимонов часто писал об этом, и, по-моему, именно он сделал это слово обиходным и даже модным. Во время подъема политической волны в 2011–2013 годах уже все делали пафосные фото в автозаках и пели там хором протестные песни. Позже автозак стал постоянным местом для сторонников Навального и вообще для всех несогласных. Он сделался детской игрушкой, попал в современное искусство (его сжигала группа «Война»), в хип-хоп и в песни про любовь: ведь он так удобно рифмуется с «казак», «дензнак», «мудак» и «поджигай бензобак».
Обычно это место воспринимается без трагизма, с некоторым даже ребяческим энтузиазмом и веселой (насколько это возможно при задержании) солидарностью. Пару лет назад я угодил туда вместе с Сашей Палем и Петром Верзиловым, гвардейцы притащили еще человек двадцать, нас держали там полдня, и у нас был настоящий богемный клуб на колесах, где общались очень разные люди, намагниченные протестной энергией, и откуда мы выходили в прямой эфир «Дождя» с верзиловского телефона.
В итоге у нас есть целое поколение, пропущенное через автозак, и этот опыт определит его дальнейшее политическое развитие. Автозак — это именно та машина времени, которую мы все коллективно заслужили.
В общем, если у вас нет фото из автозака 2010-х годов, значит, вы пропустили это десятилетие. Впрочем, еще не поздно: ведь оно кончится только через год.
Сломалась оптика. Смыслы отпали от вещей, а вещи от смыслов. Говорение не обеспечивает этих связей, словесное перепроизводство — как раз симптом этого распада.
Когда-то давно вещи принадлежали семьям и передавались из рода в род: вещами (домами, тканями, землей, переживающими людей предметами), их понимаемыми конструкциями и обвязками планируемых ими сценариев взаимодействия удерживались жизненные миры. Они обеспечивали связность и осмысленность, так же как и могилы предков. «Родительские гробы» и «родные пепелища» были всегда под рукой, чтобы соединить поколения общей трапезой. Вещи своими невидимыми частями — назовем это смыслом — входили в людей и удерживали их миры согласованными.
Уничтожение вещного мира (вещей и тел) оставило смыслы и желания неприкрепленными к физическому, воспринимаемому органами чувств миру. Долг есть — могил предков нет. Есть желание — нет желаемого, их заменители — предписаны они идеологиями или рекламой — не насыщают и потому быстро снашиваются и заменяются следующими, такими же недолговечными. Режим аномии привел к попыткам доставать из шкафов «вечные ценности», пошитые в позднесоветское время.
Если вас задела политика в 2010-е, то, по какую бы сторону баррикад вы себя ни обнаружили, скорее всего, вам знакома эта пара: воодушевление и бессилие, чередующиеся друг с другом. Эта пульсация, это колебание могли быть разных временных масштабов: от дней и даже часов до нескольких лет. Можно сказать, что в них заявила о себе одна из истин политики в сегодняшней российской — и не только сегодняшней и российской — ситуации. Политика способна породить воодушевление: например, «как много нас здесь сегодня». Но это лишь зачаток политического. Для политической игры необходимы еще кто-то или еще что-то помимо «нас» и «их». Иначе она схлопывается до перетягивания каната, а за ее сценой ход событий вершат другие силы, реальность которых заявляет о себе, например, прямым насилием: проливается кровь. И все неотложнее звучит вопрос о том, какие структуры, какие социальные связи могут этому противостоять — связи, не совпадающие только с воодушевлением от единения, ставящие его под вопрос.
Это сегодня до непристойного распространившееся выражение является наследником довольно узкоспециального выражения «закрыть (завершить) гештальт» (die Gestalt schließen/vervollständigen, complete the gestalt), которое из гештальтпсихологии перешло в гештальттерапию. В первой оно означало «достроить конфигурацию» (например, рисунок или фразу с пропусками), a во второй приобрело (эксплицитно с самого начала 50-х годов у Фрица/Фредерика Перлза) знакомый нам, уже практически «мемный» смысл: завершить мыслительную или аффективную процедуру, модель действия, освободиться от положения, к которому сознание было навязчиво приковано, удовлетворить (одну) потребность (чтобы перейти к другой).
Невероятный успех этого выражения (в России, по моему ощущению, именно в этом десятилетии) как-то взывает к объяснению. Вряд ли мы все вдруг стали гештальттерапевтами, или пациентами, или тем и другим вместе. Скорее, идея и формула легли на какой-то глубоко укорененный опыт, на какую-то повсеместно и страшно опознаваемую ситуацию. Это объяснение смыкается с «анализом судьбы», или судьбоанализом (Schicksalsanalyse): травма или какое-то сцепление обстоятельств вызывают регулярную репризу, неизбывное повторение той же конфигурации. Такая травма может быть индивидуальной или семейной, но часто она социальна, что многие психологи и/или терапевты склонны как раз недооценивать — может быть, в силу некоторого профессионального тропизма. Какой-то мегагештальт никак не хочет закрываться. Какая-то колея не хочет никого из себя выпустить. Какая-то пластинка заела, и как ни вертись, а «все будет так, исхода нет».
Сибирский тракт оказался кольцевой линией, и в Копенгаген — ну никак. «Повторится все как встарь»: немного опричнины/чекизма/омона/сизо; немного днепрогэса/лунохода/сколкова; много калашникова/бука/пересвета; много неразборчивости в средствах и наплевательства к человеку; все еще больше морали, чем права; при всем новейшем гедонизме все еще слишком много садомазохизма; все больше маленьких победоносцевых; чуть-чуть (а сколько там надо?) полония/новичка; много-много доброго царя, правление которого будет вечным, как день сурка, поскольку его двойники, если надо, не переведутся; много личного горения, но в основном синим пламенем; много бюрократии, но мало порядка, от этого много бодания с дубами; много госкича и национальной гордости и столько же самоуничижения; много Сталина вперемежку с Грозным (человеком и городом).
Вечно незакрытый российский гештальт — это Февральская революция, сегодняшние и завтрашние борцы с режимом и его жертвы (а значит, кто угодно) — они все равно падут на той, на той единственной Февральской. От этого вечного февраля одним хочется достать прозак и плакать, другим — подморозить еще больше.
Нам остается только утешать себя легкостью, с которой мы советуем друг другу: тебе надо просто (!) закрыть гештальт, старина!
Нас захватила истерика.
Она накрыла государство.
Она накрыла и тех, кто считает себя свободным.
Голоса одинокого человека больше не слышно — ему не пробиться через девятый вал истерящих любого толка: левых, правых, верующих, атеистов, владельцев собак и кошек, апологетов традиционной и других форм любви, любителей кактусов и фиалок. Список можно множить — не промахнешься.
Истерика — это зависимость.
Истерика — это ловушка, «попадос», как говорят дети.
Мы попались.
Мы запретили себе радоваться, смеяться, делать глупости, любить кого хочешь, получать удовольствие от жизни.
Мы решили, что все это будет потом.
Это иллюзия. «Потом» не бывает.
Китай занял в сознании нынешнего десятилетия (прежде всего, западном и российском, которое во многих отношениях остается частью западного) ровно то место, которое занимал СССР в сознании Запада в 1950-е: образ будущей мощи, почти не ограниченной естественными препятствиями и способной преодолевать все проблемы, которые для других стран выглядят почти неразрешимыми. Это суперавторитаризм, не знающий тех ограничений, которые привыкли приписывать авторитаризму. Это суперэкономика, которой незнакомы те внезапные ловушки, что присущи в теории другим национальным экономикам. В представлении Запада 1950-х Советский Союз действительно занимал ровно это место. Страна успешно решила проблемы индустриализации, преодоленные до этого только западными странами, опиравшимися на рыночные механизмы. Соединение же индустриализации с «авторитарной волей государства» казалось совершенно необоримой силой. Точно так же и сейчас в современном Китае западный (и российский) взгляд видит соединение преимуществ развитой конкурентной рыночной экономики и «авторитарной государственной воли», которая опять кажется чем-то, что может стать непобедимым.
Это слово не только отмечает радикальный раскол в обществе, но и, с моей точки зрения, обозначает самое важное событие минувшего десятилетия, определившее пути России на очень долгое время.
Аннексия Крыма (или его присоединение, в терминах сторонников) — это решение, которое не имеет обратного хода. Крым невозможно вернуть, но его нельзя сделать и признанной частью России. Именно это предопределило путь к конфронтации с миром и к режиму санкций. Это предрешило вмешательство России в Сирии (Асад — это кровавая копия Януковича, которого надо было спасать силой оружия и полулегальной военной интервенции). Крымнаш — это источник политической паранойи, мании майданов и ощущения кольца врагов, взявших в клещи Россию. Это источник отхода от западных культурных и этических ценностей. В каком-то смысле невозможно найти еще одно событие, которое в такой степени предопределило бы упадок и деградацию, переживаемые ныне страной как в экономической, так и в политической и нравственной сферах.
Но самое ужасное в этом событии — именно его неотменимость, оно, как роковая мета, несмываемо. Действие аннексии будет запечатывать судьбу России и после ухода Путина и оставит неискоренимый след на менталитете и образе жизни. Иногда мне кажется, что решение об аннексии было сознательно принято, чтобы определенный тип сознания (враждебно-мобилизационный) и политики (агрессивно-репрессивный) приобрел характер непреложности. Это, пожалуй, наиболее тревожащая заявка нынешних властей на вечность.
В качестве утешения все же замечу, что, как известно, ничто не вечно под луной.
Отвратительный порнографический жанр — когда жена занимается сексом с посторонним мужиком, а муж сидит рядом и получает удовольствие, иногда даже присоединяясь к процессу в качестве пассивного гей-партнера постороннего мужика. К тому моменту, когда комика Гарика Харламова в 2019 году хейтеры стали дразнить «куколдом» за то, что его жена Кристина Асмус в фильме «Текст» занималась сексом с экранным партнером (тоже, конечно, показатель общественных нравов в конце десятых — как будто не было этих тридцати лет, начиная с «Маленькой Веры»), специализированный порнографический термин уже года два жил собственной общественно-политической жизнью — кажется, пока только в правой публицистике. «Куколд» — очередной неполиткорректный ньюсмейкер, что-то сказавший про чечено-ингушей и потом вынужденно извиняющийся. «Куколд» — официальная Россия, отказывающаяся бомбить Киев и вместо этого опять договаривающаяся с Украиной по газу. «Куколд» — спасенный узник «московского дела», благодарящий за свою свободу не тысячи честных пикетчиков, а того чиновника, который мог бы и ножичком. Слово не просто противное — омерзительное. Но странно было бы, если бы омерзительному времени соответствовало какое-нибудь приятное слово.
Паролем уходящего десятилетия я бы сделал слово «молодость»; даже хочется сказать на романтический лад — младость, потому что в таком виде это понятие подразумевает не только возраст, но и целый перечень присущих ранним летам доблестей: отвагу, идеализм, нерасчетливость, благородное честолюбие…
Смена поколений идет своим чередом — вот уже и наше двинулось, как говорится, с ярмарки. Но на освобождающееся место приходит младое племя, которое не согласно мириться со злом, несправедливостью, произволом.
Для 2010-х я бы выбрала слово «Навальный». Конечно, это имя, но какое! Его нельзя произносить вслух федеральным чиновникам и наиболее рьяным работникам СМИ. То есть это почти российская версия Яхве. Но дело, конечно, не в магическом использовании имен (хотя сегодня вопрос о магии как об альтернативной модели связи вещей друг с другом возрождается с необычайной силой в мире высоких технологий).
Навальный — это и конкретный политик, и обозначение (маркер) самого протестного движения. Для меня очень важно второе. Вспомним коротко последовательность недавних событий.
Протестные движения 2011–2013 годов начинаются со спонтанной акции 6 декабря, в которой наряду с другими участвует Навальный. Митинги той эпохи мы помним хорошо: Болотная, проспект Сахарова, Якиманка, Пушкинская, Арбат, снова Болотная, но теперь уже давшая имя делу о преследовании мирных граждан. 18 июля 2013 года люди выходят на Манежную площадь, чтобы оспорить приговор Навальному по делу «Кировлеса»; его отпускают. В том же году Навальный активно участвует в муниципальных выборах, снова собирая своих сторонников на московских площадях — теперь уже в ходе официальной предвыборной кампании. В декабре 2014-го тысячи людей выходят на Тверскую против нового приговора политику по делу «Ив Роше». А потом скорбные марши памяти Бориса Немцова, против продолжающей войны на Украине, в защиту политзаключенных… 2017 год — небывалая мобилизация молодежи после фильма «Он вам не Димон»; 2018-й — создание региональной инфраструктуры (штабов Навального) по всей стране; наконец, 2019-й — лето стихийных московских протестов и «Умное голосование», поколебавшее баланс единороссов в Мосгордуме. И циничное преследование ФБК на фоне полностью сфабрикованного «московского дела»…
Это просто траектория событий. Имеет ли все это отношение к политике? Безусловно. Только это та политика, в которой — вопреки существующей политической системе — участвуют сами граждане, потому что другого участия для них (для нас), к большому сожалению, не предусмотрено. Политика в России — это выход на площадь и, наверное, волонтерство.
Но политика — это не роскошь и не дар, посылаемый богами и царями. Это естественная связь граждан в демократическом обществе. Это способ созидания через общение. Наше участие в политике — прямое, низовое, демократическое — сегодня сводится к протесту (ненасильственному!) против коррумпированных и/или репрессивных институтов. И Навальный — вовсе не первый среди равных, но выражение динамики тех сил, какими только и творятся изменения — причем, замечу, в мировом масштабе.
Это ощущение в России очень часто бывало массовым. А потом случались революции, смуты. Предпоследний раз таким десятилетием были 1980-е. Застой, маразм номенклатуры с ее привилегиями закончились развалом СССР и рывком к свободе в 1990-е годы.
2010-е удивительным образом повторяют предыдущий кейс. «Аннушка уже разлила масло». Чувство несправедливости — всеобщее. Это и пенсионеры с их нищенскими выплатами, и бизнес, давимый коррупцией и силовиками, и молодежь, не видящая перспектив достойной жизни в собственной стране, и номенклатура 2.0, становящаяся наследственной.
Десятилетие 2020-х обещает быть интересным.
Никогда бы не подумал, что тот мой знакомый увлекается спортом и диетами, но именно диетами и спортом он плотно занялся, как только стал частью таинственного — и остроконкурентного — мира государственной элиты. И похудел за полгода! Это было лет 10 назад, и с тех пор я видел немало таких преображений. Они происходили не только с людьми, ушедшими работать на государство. Любовь Соболь занимается спортом, Павел Дуров проповедует диету охотников и собирателей, Елизавета Осетинская в собственный день рождения отправляется в велопробег. Правильная еда, режим, марафон, отказ от алкоголя и наркотиков стали сигналом готовности шагнуть к новым достижениям — в бизнесе и политике. Можешь организовать себя — значит, сможешь организовать и других, можешь отнестись к себе как к ресурсу — значит, сможешь правильно использовать и ресурсы других. Подтянутые, голодные, умеющие говорить «нет» и немного злые устремлены в будущее — у них есть план. Мягкие, любящие вкусную еду, говорящие «да» и готовые поговорить за бокалом вина о разных хороших вещах не имеют плана. Или его не формулируют. Или скрывают. Но не стоит смотреть на них — на нас — свысока. Может быть, это старая, уходящая культура, но если так, то она требует внимания и защиты.
Это слово со своим прошлым, хотя и не совсем из русского словаря. Так называли период чехословацкой истории от вторжения войск стран Варшавского договора в 1968 году, подавившего Пражскую весну, до «бархатной революции» 1989 года. Формально оно означало возвращение к нормам социалистического общества, бытовавшим до либерализации, фактически — закручивание идеологических гаек, подавление гражданских свобод и массовые репрессии против несогласных. У этого слова есть приблизительный синоним в английском языке: фразеологизм reverting to type — возвращение к типичному равновесному поведению. Например, пружина в состоянии напряжения стремится к расслабленному.
Есть, однако, разница между пражской нормализацией и московской. У них там либеральный шаблон действовал раньше и дольше, чем авторитарный, — между войнами, а еще раньше — в рамках сравнительно свободной империи. Поэтому настоящая нормализация — это, скорее, с 1989 года.
У России все подобные воспоминания — в лучшем случае короткие передышки после манифеста 1905 года и между двумя революциями 1917-го. То есть нормальное положение шлагбаума — закрытое, и это бросает очень некрасивую тень на обозримое будущее.
Чем дальше в десятые годы, тем больше законов и правил принимают власти для того, чтобы осложнить гражданам жизнь, а заодно обеспечить себе и определенному кругу приближенных к власти интересантов возможность заработать на воплощении в жизнь ограничительных мер. Символом этих полураспада и коррупции в сочетании с некомпетентностью и плохим пониманием того, как устроен мир, являются попытки блокировать что-то техническое в интернете. Например, популярный мессенджер, который отказался сливать переговоры пользователей силовикам.
Для массы простых пользователей — для собственно общества — выходом и защитой от государства становится сила слабых: повышение технической грамотности, обход блокировок. Пока государство закрывает на это глаза, у него есть шанс продержаться еще немного в более или менее прежнем виде. До конца десятых, по крайней мере.
Любое слово, которое ты находишь, думая об уходящем десятилетии, недостаточно не только для него, десятилетия, но даже и для тебя самого, для твоей собственной частной жизни в нем. Похоже, время культурных эпох, которым можно дать единое определение типа «оттепель» или «застой», закончилось. Географическое положение, возраст, имущественный ценз, профессия — не только в этих, достаточно общих, понятиях — все по-разному. Участники «московского дела» дадут одно определение, безмолвствующий электорат — другое. Обнищавшие таксисты, гастарбайтеры, цифровые маньяки, неудачливые (удачливые) грантососы, офисные клерки или современные художники, поклонники ЗОЖа или потребители антидепрессантов, митушники, феминистки, сетевые тролли, диванные критики по призванию или активисты — сказать, что у каждой поименованной группы будет свое определение, — ничего не сказать. Оно будет разное почти у каждого даже внутри самой группы.
Гениальный Расторгуев раньше всех догадался, что авторский глаз теперь должен быть подобен пчелиному глазу, потому что единой Реальности больше нет.
Так же как нет реальной идеологии, политики, экономики, судебной системы, большого искусства.
Нет логики, отсутствуют причинно-следственные связи. Сегодня ты на коне и в дамках, а завтра — последний изгой, и тебя волокут, измазанного дегтем и в перьях, и даже ничего не понимающая дементная старушка, случайно оказавшаяся на улице, плюнет тебе вслед.
Нипочему. Время случайных жертв. Время рандомно выбранных заложников.
Впрочем, и баловни, и любимцы занимают свое место тоже случайно или по непонятным причинам.
Нет даже подлинных эмоций: их надо добывать, используя механизм искусственной возгонки, самовзвинчивания, за которым непременно последует цепная реакция.
Трубит рожок, идет охота… В роли ведьм выступают то врачи, то харассеры (подлинные, но больше мнимые), то приемные родители, то учителя.
Институт публичных интеллектуалов и моральных авторитетов заменен сонмом психологов.
Они — властители дум. Они диагностируют травмы и определяют виноватых. Их лексикон вошел в обиходную речь и заполонил ее: газлайтинг, обесценивание, личные границы, насилие, травма…
Презумпция невиновности отменена как ценность и как факт. Было бы обвинение, толпа обвинителей появится.
В оттепельную пору была пьеса, которая сегодня забыта: «В поисках радости». Ее ставил великий Эфрос. Название этой пьесы как нельзя более точно определяет суть той эпохи: человечество искало радость.
Сейчас оно ищет что-то одно: либо комфорт, либо возможность канализировать агрессию.
Отсутствие будущего (точнее, отсутствие чувства будущего) создает ощущение тупика, порождает страх.
От беспримерного количества фейков (мнимостей на месте сущностей) чувство реальности утрачивается стремительно.
На месте реальности у тех, кто все же ее ищет, возникает пустота.
Каждый заполняет ее как может.
Промежуточный итог: опустошение.
То, что в 2000-е было аргументом в конфликте православных активистов (или стоящих за ними политтехнологов) с современными художниками, в 2010-е стало главным фактором мировой политики. Оскорбленные чувства, которые требуют судебного разбирательства, фейсбучной проработки, изменений стандартов языка или попросту отмщения, — то, без чего нас невозможно представить, еще труднее — понять.
Оскорбить могут слова и мемы, видео с миллионами просмотров и спектакли, которых никто не видел. Существуют технологии разжигания коллективных обид — когда медиа с аудиторией в десятки миллионов методично объясняют зрителям, на чей твит и на каких основаниях им надо искренне обидеться; случаются обиды, которые сами разлетаются со скоростью лесного пожара; постепенно вырабатывается культура извинений (кто не понял, тот поймет).
Риторику оскорбленных чувств принято связывать с действиями леволиберальных активистов и защитников меньшинств, с тем, что в США носит название woke culture, — но в России те же фигуры речи становятся орудием ультраконсерваторов, требующих запрета спектаклей и выставок, или силовиков, страдающих от пластикового стаканчика и рискованного твита.
Можно было бы провести различие между коллективными обидами, инициируемыми властью и, напротив, служащими средством защиты от власти, — но вернее было бы сказать, что в 2010-х оскорбленные чувства и создают власть, цементируют коллективные идентичности и наделяют их общественной силой. Политика в 2010-е все больше строится не на базе убеждений или интересов, но вокруг правильно закрученного аффекта, в первую очередь — гнева или обиды, и мастера производства этих аффектов — от Трампа до Бориса Джонсона, от Виктора Орбана до Владимира Путина — оказываются главными выгодоприобретателями минувшего десятилетия.
Обида — это и средство самоидентификации в публичном поле: я обижаюсь, следовательно, существую; как говорил в интервью COLTA.RU профессор Андрей Зорин, «центром самоощущения человека становятся способность и умение правильно оскорбиться от лица какой-то группы». То, что когда-то представлялось единой европейской цивилизацией, все больше разбивается на ощетинившиеся невротические сообщества; бывшие единомышленники вычеркивают друг друга из списка людей за лайки под обидевшими их постами; и если Гоббс считал естественным состоянием человечества войну всех против всех, то мы практически вернулись к этому положению дел — с единственной поправкой: общество — это теперь совокупность индивидов и групп, где все на всех обижены.
Время нелинейно, и каждое новое десятилетие наконец-то понимает и реализует главные темы предыдущего. Имперская экспансия и взрыв коммуникаций, произошедшие в 2010-е, уже были намечены и продуманы в 2000-е.
Но если смотреть на позитивные движения 2010-х, в целом крайне травматичных для обществ России, США и ряда других стран, то можно охарактеризовать их как сосредоточение. «Россия сосредотачивается», а с поправкой на XXI век — «Россия ощетинивается»: вот суть российской внешней политики, несмотря на ее локальные захваты.
Однако то же можно сказать и о российском просвещенном обществе, загнанном в гетто недружелюбной властью. Ощетинивающееся сосредотачивание — вот чем занималось это общество, крепя горизонтальные связи, окапываясь, уходя в себя.
При всех издержках инцестуозного тесного мирка само по себе это движение внутрь содержит в себе большой политический потенциал, который может стать сознательной задачей на 2010-е. То же, впрочем, можно сказать и о внешней политике Российской Федерации…
И российские, и глобальные 2010-е начались со стремительного возвращения массовой политики, которая, как многим казалось в предыдущее десятилетие, навсегда уступила место экономике и менеджменту. Такая политика — «арабская весна», американский Occupy, наша Болотная или киевский Майдан, — отрицая существующий порядок вещей, была неспособна, однако, предложить ему свою альтернативу.
Возвращение политики как конфликта, линий разделения и разногласия затем нашло отражение и в глобальном подъеме правого популизма, и в агрессивной риторике путинского «консервативного поворота» после 2014-го.
Желание обнаружить и культивировать конфликт (реальный или воображаемый) стало неотъемлемым элементом политизации повседневности — в первую очередь, в связи с практически полным растворением публичной сферы в пространстве интернета. Ожесточенные интернет-дебаты, вовлекающие миллионы участников, разрушили последние границы автономии личного (#MeToo) или природного (изменение климата), прежде как бы находившихся за пределами политики.
Политика превратилась в абсолютное средство обретения себя в бесконечных конфликтах, но так пока и не пришла к собственной цели — решениям, способным радикально изменить мир в интересах общества.
Главное слово десятых трудно определить: ведь наши речи полностью замещены мемами. Раньше пароли применяли редко и с оговоркой «как бы». Но великий мем девяностых «как бы», войдя в обиход, перестал замечаться. А речь десятых заскрежетала.
Рокировке сопротивлялись протестами, а в ответ «креаклам» и «либерастам» явилось подавляющее большинство с девизом «запрет и безопасность». (Но в безопасности главное — кадры обеспечения безопасности: та бесплотна без эксцессов обеспечивающих лиц. Чем больше их хаотичной экспансии, тем и безопасности больше.)
Путин в десятые вернулся в Кремль на срок, затем еще на один — пока не перестали считать. Иногда он еще веселит публику соленым словцом, но его мемы не застревают в мозгу, как бывало.
От хаоса правлений население потянуло к нормальной жизни, у социологов замелькало слово «нормальность» — ценность, о которой давно забыли. Но скептик заметит, что нормальная жизнь идет в паре со звучным понятием «пытка».
Путин «смотрит по телевизору, как Песков несет пургу» — а я не смотрю и не знаю мемов, какими «Останкино» опыляет Россию. Мой лексикон неполон. Но помню, как в нулевые обрывали: не политизируй!
А в десятых о политизации толкуют как о погоде. Политизация сыростью сочится сквозь стены, пол и потолок. Политизируют все, но что-то зря: протест корчится улицей, не становясь силой.
Но, когда сила придет, политизация перейдет в политику или войну. Впрочем, то уже из словаря грядущих десятилетий.
За последние 10 лет «политическим» стало примерно любое действие, совершаемое публично или приватно.
Возможно, до нас просто докатились отголоски манифеста 1970 года. А вместе с ними появилось новое понимание того, как защищать частные и коллективные права, свободы и предпочтения. И жизненно важным стало противостояние дискриминации, властному давлению на каждом шагу, актам применения силы во вред другому.
А возможно, акты свободного волеизъявления с течением времени превратились в сражения за то, чтобы банально быть «человеком среди людей, быть свободным среди свободных». И любая позиция постепенно стала выглядеть жестом с политическим подтекстом.
Интерпретировать происходящее можно по-разному. Важно, что в отсутствие политической жизни институтов ею живут граждане. Правда, возможно, они — мы — политически не живут, а выживают. Например, в сетевых анклавах.
Десятые годы начались с принятия закона о полиции (2011 г.). В нашей жизни появились полицейские и, в общем, исчезло внятное основание для просторечного, немного пренебрежительного и все-таки теплого «менты». Вроде бы это слово не совсем потерялось, но что-то в последнее время я не слышу про «ментовку», «ментовской жаргон» и прочее в том же роде. Утеплить и одомашнить «полицию» таким же образом оказалось труднее.
«Полицейский» звучит увесисто, но несколько двусмысленно, и весь арсенал советской идеологии, от которого начальство не собирается отказываться, работает против полиции. В советском кино плохие полицейские борются против хороших людей перед революциями в России и против трудящихся за рубежом. К ним еще добавляются фашистские «полицаи».
Все это было известно, когда закон о полиции обсуждали. Никого это не остановило и, в общем, роковых последствий не имело, только осадок остался, и осадок этот все время взбалтывается.
Иногда сообщения о задержаниях вступают в сомнительную перекличку с телевизором, где легко наткнуться на очередной советский фильм то ли про жестокость полиции, то ли про гуманность милиционеров. Но никаких выводов отсюда сделать нельзя — ни далеко идущих, ни даже приблизительных. Так сложилось, такова рутина повседневности.
Конечно, «полицейщина» — это совсем не доброе слово, и никакие «полисмены» у нас не приживаются, и «День полиции» не появился (а «День сотрудника органов внутренних дел» — это чисто, хорошо, не придраться, но и не выговаривается, не войдет в обиход). Словам не стоит придавать слишком много значения, и вряд ли «народная милиция» была такой уж «народной», когда ее переименовывали, но все же мы помним, что по смыслу-то, по этимологии «милиция» — это вооруженный народ, а «полиция»… «полиция» изначально вообще не про вооружение, про другое.
«Полиция» исторически — это регулярное благоустройство, или, как у нас говорили несколько веков назад, «благочиние» (то есть «добрый порядок», gute Ordnung из устойчивого словосочетания gute Ordnung und Polizei, с упоминания о котором начинаются все исследования так называемой полицейской науки). Благоустроенный и безопасный, «полициированный» город, место проживания добропорядочных горожан («полис», от него и «полиция», пишут ученые в это время), в XVII–XVIII веках становится образцом для управления всей страной. Это, впрочем, уводит нас к историческим истокам «полицейского государства», каким оно было задумано давным-давно. Уже сто лет как все эти замыслы интересны разве что историкам и философам.
Благоустройство и опека граждан от лица начальства, с одной стороны, и повышенная забота о безопасности, превентивно-репрессивный характер полицейского надзора, с другой, давно уже не составляют единства, и формула «полицейское государство», скорее, наводит на мысль об установке на решение проблем через монополию на силу, а не через процедуры и согласования. Полиция в полицейском государстве не создает рамку для безопасного существования публики, решающей общие проблемы: она действует вопреки и помимо публичности.
В момент переименования милиции в полицию речь шла не о гарантиях социального обеспечения, а, скорее, о том, что делать, когда гарантий станет меньше, а недовольства — больше. Об этом не говорили много, но уже становилось все более очевидным, что полиция, по идее, должна была стать более эффективным проводником не столько закона и порядка, сколько порядка и закона или просто порядка, если закон не успевает. Правда, в ретроспективе кажется, что тогда не только замыслы демократического обновления, но и нечеткая идея правильного, в точном смысле полицейского управления, силой, а не процедурой преодолевающего несправедливость, носились в воздухе. Помнится, что к этому времени еще сохраняет популярность цикл романов о Фандорине, которые местами читаются как полицейская утопия (хотя фильмы «Статский советник» и «Турецкий гамбит» относятся еще к середине нулевых). И недаром их автор становится на несколько лет — опять-таки в начале 2010-х — одним из ведущих публичных интеллектуалов (не будем только подозревать в нем апологета плохой полицейщины: речь снова о добром, разумном и сильном порядке). Собственно, невозможность полицейского государства обозначилась уже тогда, и с каждым годом она подтверждается. Что происходит?
Дело не в том, что у полиции нет готовности применить силу вместо процедуры (или вопреки процедуре), не в репрессивных склонностях, не в чрезмерной и все нарастающей тенденции к регуляции вместо самоорганизации. Главная беда как состояла, так и состоит в том, что воле к порядку не предшествует и ей не сопутствует идея порядка.
Возможно, вопреки декларациям более либерального и человеколюбивого толка следует желать, чтобы полиция была не только средством, но и целью, потому что как цель она может представлять собой единство покоя и предсказуемости, быть внутренне непротиворечивым и самоценным, добрым порядком, тем самым, что мерещился кому-то в начале десятых. Оставаясь средством, претендуя на то, что она есть не более чем техника достижения целей, она не решается сама и мешает всем прочим высказать истину о самой себе как о множестве конкурирующих сил, уже обретших понимание частного интереса, но потерявших из виду всеобщее.
Явление, которое зародилось в 2010-е и отъедает все больше пространства в нашей жизни. Современные интерфейсы (экраны смартфонов) и средства распространения информации (соцсети) уравнивают в правах правду, полуправду и откровенную ложь. Анонимные телеграм-каналы, распространяющие слухи, стоят в одном списке с каналами СМИ. Инстаграм-целители подсаживают пользователей на свои диеты и препараты. Ложь политиков легко сходит им с рук, если произносится громко и убедительно (то есть — для миллионов фолловеров). А еще есть дипфейки — смонтированные при помощи искусственного интеллекта видео, на которых известные люди говорят или делают то, чего не сделали бы в жизни; США уже рассматривают их как угрозу национальной безопасности.
Возможно, будущие поколения будут учиться осознанному потреблению информации с детского сада, а пока мы сбегаем от сонма ботов и анонимов туда, где еще жива правда: к семье, друзьям, настоящей науке.
Десятые годы нового века — это десятилетие с проваленной серединой, через которую прошел какой-то «эпохальный шов». Поэтому нет определения, которое подходило бы и для самого «шва», и для предшествующих или последующих лет.
Все же я предложу одно слово: потрясение.
Реальность и представление о реальности всегда не совпадают. Но в нашем случае такое несовпадение не нарастало постепенно, а обрушилось как-то сразу. Просто продолжать прежнее «настоящее» оказалось невозможным. Отсюда и потрясение.
Люди мы немолодые, и ничем нас, казалось бы, не удивишь. Как бы не так! Главным депрессивным ударом стала реакция на крымские события многих людей, которых мы знали сто лет и за которыми раньше никаких «имперских» чувств не замечалось. Перед нами было не чужое, а знакомое, даже родственное сознание, только в нем внезапно обнаружился подвальный этаж, о существовании которого мы все долгие годы общения даже не подозревали.
Какой-то новый — с неожиданной стороны — удар нужно держать, и от этого у всех некоторое сотрясение мозга: тошнота, апатия, депрессия. Всем как будто неловко смотреть друг на друга.
«Нужно включаться», — заявил Хайдеггер Ясперсу в мае 1933 года. «Я удивился, но ничего не спросил», — признается Ясперс. Отчего ж не спросил? Думаю, от неловкости, от стыда. И, кстати, о ключевых словах: в обширной многолетней переписке Хайдеггера и Ханны Арендт отсутствует слово «Гитлер».
«Беда в том, что, если ум не способен принести примирение, он сразу оказывается втянут в свою, особую войну» (Х. Арендт). Эта война идет сейчас в сознании каждого человека. Он должен хотя бы понять, против чего воюет, где эти противоборствующие стороны.
Наверное, для того, чтобы делиться друг с другом такой двусмысленной вещью, как замешательство, оно само должно быть продуктом (и источником) мысли. Как мыслить замешательство?
Когда узнаешь что-то новое о человеке (о человеке вообще), это и есть главное потрясение. В середине прошлого века человечество узнало о человеке что-то такое, что знать невозможно, невыносимо. Узнало — и проглотило это знание, не разжевав. Сейчас оно возвращается приступами тошноты. Отсюда, вероятно, такой острый, как бы сегодняшний интерес ко всем этим вещам — Холокосту, ленинградской блокаде. История перевернула страницу, и эта новая страница — какой-то «пейзаж после битвы». Ничьи останки, как выяснилось, не захоронены, только припорошены снежком. Но вот он растаял.
Две тени загромождают пути моего воображения, как писал Бабель; и то, и другое невозможно объяснить логически, рационально.
Казалось бы, советские люди окончательно отторгли пропаганду в середине 1980-х и она больше никогда не вернется. Но она вернулась. Почему?
Это полезло наружу бессознательное, глубинное, которое нельзя отменить указом, — в виде каши из понятий, словесного мусора, фобий, комплексов, предрассудков. Все достоевские подвалы, которые копились 70 советских лет, не чистили, и заросли они непроходимо.
У тоталитарного человека на лице безмятежность, а в душе ад. Просто раньше он не мог об этом рассказать, а теперь может. И сейчас он активно делится, одаривает, знакомит нас со своим адом. И, кажется, по Сорокину, пока он не выблюет это в виде слов, не выговорится до знаков препинания, до мычания — не успокоится.
Но, с другой стороны, — протест меньшинства.
Опять-таки необъяснимо, непонятно, откуда это могло взяться у постсоветского человека — с высушенной мумией-совестью, с выдубленной предками моралью «не высовывайся, не лезь, не дерзи». Но откуда-то берутся вновь и вновь — люди, которые продолжают высовываться, лезть, дерзить.
В этом нет логики — но и не должно быть. Это высший инстинкт — по Ханне Арендт: «если я этого не сделаю, совесть сгрызет меня». Что-то вечное, что-то прекрасное в человеке, что невозможно истребить. Откуда оно берется?..
Это прекрасная загадка; но как и в середине 1950-х, посреди безнадежной сталинщины, в жуткий холод, так и теперь, опять, снова — взялось.
Конечно, главное слово 2010-х — «разоблачение».
В минувшее десятилетие в США его жертвами стали АНБ, выведенное на чистую воду Сноуденом, Харви Вайнштейн и президент Трамп, который никак не может заработать на полноценный импичмент, что говорит нам о том, как разоблачение может стать бесконечным.
В России это коррупционеры, привлекшие внимание Навального, учитель Меерсон и депутат Слуцкий-«зайчутка».
Но дело не ограничивается актуальными новостями. В науке активно разоблачают ученых, занятых data dredging, или p-hacking, то есть установлением произвольных корреляций между различными параметрами, которые они пытаются выдать за причинно-следственные связи. Добавим психологию — опыты Зимбардо и Мильграма. Уже неточно помню, кто там с чем экспериментировал, но выяснилось, что люди — вовсе не садисты и не объекты манипуляции: дайте им немного времени — и они справятся.
Итог: «разоблачение» — это слишком суровое слово. Нет никакого субъекта, никто не плетет сеть международного уличительного заговора.
А единственный пример неоспоримой причинно-следственной связи — это «курить вредно». Это действительно вызывает рак. В остальном — мы по-прежнему свободны.
В отличие от исторической реакции, ставшей ответом на Французскую революцию, ее современная форма работает как способ уклонения от необходимости собственной содержательной повестки. Реакционность как тенденция, характерная для значительной части современной политической жизни, есть оборотная сторона неспособности к производству чего-либо нового. Это симптом содержательной пустоты, превратившийся в технологию ее маскировки.
«Реакция» 2010-х — это не «стабильность» нулевых, у которой, как бы к ней ни относиться, была программа (административное собирание страны, «укрепление вертикали власти», частичные реформы), у которой было бюджетное наполнение. Стабильность была «тучной», а режим — на подъеме. Последние годы — годы его деградации: лишенный внутреннего содержания, режим поддерживает себя в приподнятом состоянии с помощью репрессий, которые опять же носят реактивный характер. Даже его главная победа, достигнутая весной 2014 года, была реакцией на происходящее у соседа.
Эта новая форма реактивности приходит на смену тому, что в прежние времена обеспечивалось идеологией, системой управления, партийной программой, корпоративным этосом правящей элиты. В каком-то смысле это приход ситуативности туда, где прежде была системность; это логика ответа, а не утверждения. Реакционность современной политики можно сравнить с игрой, где нет подающих, а есть лишь принимающие подачи, которые, в свою очередь, представляют собой отскок какого-то еще более раннего удара — и так до бесконечности.
В этом содержательно пустом состоянии понятие реакции перестает быть политическим, работая, скорее, в плоскости биологии (стимул — рефлекс) или маркетинга (провокация — реакция). Перед нами уже не стремление вернуться к утраченному прошлому (политика) или сохранить определенную систему ценностей (консервативная идеология). Перед нами стремление удержать собственность, признание и власть, для которого идейный вакуум оказывается наиболее устойчивым фундаментом — причем как во внутренней политике, так и во внешней.
В первом случае содержательная пустота позволяет всасывать, абсорбировать и обезвреживать любую альтернативную позицию. Во втором — производить образы врага или самих врагов, на действия которых приходится реагировать. Политика сегодняшнего дня разворачивается именно через механизмы реакции: на угрозы и вызовы, на подавленные желания и страхи, на другого и свое собственное отражение в зеркале. Именно поэтому ее словарь также насквозь реактивен и состоит из «зеркальных» и «симметричных» ответов, «обраток» и «ответок». Поэтому с ней так же трудно бороться, как трудно перекричать эхо.
Эпоха санкций началась для России в 2010 году, когда Европейский парламент принял резолюцию с призывом запретить въезд в Евросоюз лицам, обвиненным в причастности к гибели аудитора Сергея Магнитского в российской тюрьме в ноябре 2009 года. В декабре 2012 года президент США Барак Обама подписал «акт Магнитского», придавший визовым санкциям и другим ограничениям статус закона. Москва ответила запретом на усыновление российских сирот американскими гражданами («закон Димы Яковлева»), а через несколько месяцев опубликовала свой собственный список нарушителей прав человека, запретив им въезд в Российскую Федерацию. «Списки Магнитского» продолжают действовать по сей день, хотя после 2014 года они оказались в тени гораздо более масштабных санкций, введенных против России в связи с аннексией Крыма, вмешательством в конфликт на Востоке Украины, попытками повлиять на исход президентских выборов в США, «делом Скрипалей», действиями в Сирии, Венесуэле и других частях света. Россия тоже не осталась в долгу, введя запрет на ввоз продовольствия из «враждебных» стран и постоянно расширяя списки «невъездных».
Россия 2010-х — это страна, в которой санкции и контрсанкции стали частью не только экономической, но и политической, социальной и культурной реальности. Кабинет министров учитывает санкции в своих экономических прогнозах, предприниматели вынуждены корректировать бизнес-планы, новому поколению потребителей уже неблизок оптимизм «тучных нулевых». Для одних жизнь под санкциями — это повод ощутить себя патриотом, для других — лишнее доказательство того, что «в этой стране» все никогда не будет «как у людей». Туристы привычно везут из Финляндии и Эстонии пакетики с «санкционкой», чтобы в праздник угостить друзей «настоящим» сыром и в очередной раз обсудить проблему низкого качества отечественной продукции. Проблемами санкций озабочены герои столь разных авторов, как Дарья Донцова, Екатерина Вильмонт и Виктор Пелевин. Разбиваясь о быт, мелкие осколки большой политики обретают почти гламурный блеск.
Словом десятилетия для меня стало слово «статья» — и нет, это не те колонки, эссе и академические публикации, которые я все эти годы писал, не статьи ипотечного договора и не статьи Конституции РФ — а то хорошо известное каждому советскому человеку словоупотребление, когда «статья» обозначала статью Уголовного кодекса («Был бы человек, а статья найдется!»). Это стало признаком тотальной юридизации нашей жизни в 2010-е, когда «бешеный принтер» Госдумы, плодивший безумные и абсурдные законы, в итоге напечатал нам «Процесс» Франца Кафки, героями и жертвами которого мы оказались.
Правоохранительный дискурс вошел в нашу жизнь с назначением Путина двадцать лет назад. Поначалу он использовался для «борьбы с терроризмом» (Чечня-2, Беслан, «Норд-ост») и для силового перераспределения собственности («спецификации прав собственности по понятиям», согласно Пелевину). Но в своем втором десятилетии режим заматерел, оскалился, и после дела Pussy Riot в 2011-м, а окончательно — после Болотной и начала третьего срока Путина в 2012-м этот дискурс стал использоваться непосредственно против населения. Переход власти в репрессивный режим происходил постепенно, но ежедневно: поначалу, как в известном стихотворении Мартина Нимёллера, приходили за бизнесом, потом за правозащитниками, потом за «иностранными агентами» и СМИ, а к 2019-му выяснилось, что пришли за всеми.
Вся наша реальность стала тотально юридической: слушая по радио часовые выпуски новостей, я привычно отмечаю, что примерно восемь-девять из десяти — это новости правоохранительного содержания: у А начались слушания по существу, у Б суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения, у В в офисе прошли обыски, а в Госдуме в третьем чтении приняли закон о расширении очередной уголовной статьи.
Хроники суда заменяют нам международные новости (гражданку Израиля, осужденную за «контрабанду наркотиков» в Шереметьеве, не будут обменивать на российского хакера), новости бизнеса (дело Калви), культуры (дело «Седьмой студии»), космоса (новые аресты по хищениям на строительстве космодрома «Восточный»), интернета (сроки за репосты), образования (следователи изъяли в ВШЭ курсовые работы Егора Жукова)...
Правоохранители — полицейские и Росгвардия, следователи и оперативники, судьи и прокуроры — оформляют новостную повестку, наше сознание и, по сути, всю российскую политику. Вернее, так: политику подменило силовое администрирование, политический язык заменили репрессивным, и вместо статей конституции у нас теперь статьи УК, УПК и КоАП, которые, по сути, и стали основным законом нашей жизни.
Если четверть века назад мы осваивали слова «кворум», «дебитор», «секвестр», «мажоритарный округ» и «праймериз», то сегодня все привычно говорят о «квалификации», «составе», «сутках», «административке», научились отличать арест от задержания, следователя от дознавателя, СИЗО от ИВС и выучили профессиональный термин «сотрудники» (собирательное название всех правоохранителей).
Нашим ежедневным лексиконом стали те самые статьи: мы знаем все про 159-ю (которой фактически убили российский бизнес) и про «народную» 228-ю (по которой сидят тысячи невиновных людей), научились разбираться в тонкостях и частях 280-й, пережили введение, расширение и частичную декриминализацию 282-й, горячим летом 2019 года узнали про «массовые беспорядки» по 212-й и «применение насилия по отношению к представителю власти» по 318-й и этим же летом на собственном кошельке познали тонкости и санкции статьи 20.2 КоАП «о порядке организации митингов, шествий и пикетов» — так что среднему российскому гражданину, следящему за новостями, смело можно выдавать диплом юриста.
Порой легализм системы вызывает удивление и даже некоторое уважение: в менее щепетильных латиноамериканских диктатурах людей массово пытали и убивали, как тонтон-макуты на Гаити, расстреливали на стадионе, как в Чили, скидывали в море с вертолетов, как в Аргентине. Почему же этого почти нет здесь? Ведь никто не будет особо возражать ни в России, ни на Западе, теперь всем все равно — но нет: dura lex sed lex, тысячи серьезных дядек в погонах сидят ночами, потеют, натягивают сову на глобус и человека на статью, повинуясь им одним известному принципу легализма, чтобы уничтожить человека не пулей и топором, а параграфом и экспертизой, легализовать репрессию.
В этом сходство нынешней ситуации со сталинским 1937-м, когда убивали не люди, а знаки, когда работала символическая экономика террора. Работает она и сейчас, обеспечивая Кремль репрессивной средой, необходимой для удержания и трансфера власти, обеспечивая его покорным и дисциплинированным населением, а силовую корпорацию — неиссякаемым источником новых дел, премий, зарплат, отделов, ставок и пресловутых «палок», плановых показателей по раскрытым делам, для которых мы все представляем гуляющую биомассу, кормовую базу, ибо нет людей невиновных, а есть только недопрошенные и непытаные.
Поэтому, когда тебя спрашивают про твою статью, не спеши доставать свой список публикаций, а достань лучше УК и посмотри, как могут квалифицировать твои деяния и умыслы и какую санкцию запросит прокурор: с точки зрения российского так называемого правосудия мы все — лишь ходячие статьи.
Политически и социокультурно вторая декада нового тысячелетия — одна из самых тухло-ретроградных и мелочно-тупых в западной истории последних столетий, начиная века с восемнадцатого. Второе рождение таких, казалось бы, абсолютно сгнивших вещей, как «культурный» национализм, масштабная ксенофобия, популизм лавочников, авторитаризм пилсудского (а то и салазаровского) образца… Размывание социальных систем модерности и возрождение примитивного деления общества на haves и have-nots, на просто имущих и неимущих, дебилизация высоколобой культуры и триумф слободского презрения к знанию, разуму и здравому смыслу. Плюс смерть Университета и кома Академии.
В этом смысле российские 2010-е — не какие-то особенные: нет, они совершенно в тренде. Даже в каком-то смысле они и задали тренд, причем сделали это еще до наступления нынешнего десятилетия. Российская «суверенная демократия» задолго предшествовала венгерской, польской и Brexit. Так же как и игры с историей, post-truth и многое другое — здесь это началось еще в блаженные сурковские времена. Россия опять задала моду, но, в отличие от послереволюционных лет, — не на новое, а на старое.
И как раз в этой точке начинается различие. Европа и Северная Америка «проходят» то, что в России «прошли» лет 15 назад; там это еще в новинку, а здесь давно стало нормой. В Штатах трампизм есть нормализация ненормального (не человека, конечно, — явления). В России весь этот якобы популистский якобы консерватизм нормализован еще в 2000-е — а в 2010-е происходила его банализация. Он стал воздухом, которым дышит общество, естественной общественно-политической атмосферой, как бы «природой», против которой не попрешь. Главные элементы этой атмосферы — цинизм и отсутствие надежд (и, соответственно, отсутствие будущего).
2010-е — не хронологические, а настоящие — в России не кончатся до тех пор, пока кто-то (человек, группа людей) или что-то (событие) не сделает дырку в этой атмосфере, пусть ненамеренно. И в эту дырку можно будет увидеть что-то совсем иное.
Слово десятилетия для меня — «травма». У всех что-то болит, и всем нужно этой болью поделиться. Такое ощущение, что уникальность жизненного опыта стала пониматься как уникальность насилия, этот опыт сформировавшего. Публичный дискурс превращается в монологи жертв — а не в диалог равных субъектов.
К этому можно относиться критически, но эта ситуация продлится до тех пор, пока «жертвы» не почувствуют, что к их проблемам относятся всерьез, что их слышат.
По поводу других знаковых политических явлений нулевых — «Болотного» протеста, Майдана, «Крымнаш» — легко занять одну из сторон, ощутить свою безусловную историческую и моральную правоту, разделить ее с друзьями.
Феминистский вызов, как скальпель, проходит сквозь нас, перетряхивает и меняет задним числом наши личные и коллективные истории. Ему глупо противостоять, с ним невозможно (мужчине) отождествиться. С моральной силой религии радикальным образом он вскрывает тот пласт сознания, который сложился из худших черт советского и постсоветского обществ, в котором закрытость, болезненная конкурентность, культ силы и ощущение собственного социального унижения, страх перед меньшинствами, перед бездомными, слабыми, чужими. Уверенность, что в слабом, в жертве есть тайная опасность, что они на самом деле сильнее и хитрее тебя.
Откуда все это взялось? Если, как предложено в опросе, оперировать десятилетиями, то можно предположить, что на утраченную советскую закрытость и своеобразную защищенность 1980-х наложились растерянность, беззащитность, деполитизация 1990-х, потом — небольшой жирок благополучия в нулевые, потом — реваншистские судороги 2010-х. Все это вместе теперь лежит какими-то неотрефлексированными пластами, боясь пошевелиться. И не без оснований считает феминизм своим главным врагом, пытается противостоять ему разными способами — от культа старого доброго искусства и его великолепного творца до разнообразных реконструированных традиций и политического реконструкторства.
Между тем гендерный вопрос, который по-прежнему кажется чем-то побочным и необязательным для крупных общедемократических или классовых повествований, на самом деле уже стал для них стержневым. Благодаря соцсетям личное в самом деле стало политическим, и любые скрытые отношения власти/насилия, цементирующие ту или иную структуру общества — от семьи до политической партии, — могут быть вскрыты в любой момент. Издержки этих процессов (спекуляции, клевета) способны быть неприятными или даже трагическими, за ними, конечно, может стоять чей-то личный злой умысел. Но главный виновник — точно не борьба феминисток против скрытого насилия, а та уникальная разноуровневая система эксплуатации, подавления, исключения, которая у нас сложилась.
Можно сколько угодно ненавидеть и подозревать феминизм, но чувство, что тебя унижают одновременно и государство, и босс и ты никогда не сможешь стать ни тем, ни другим, в новой декаде будет только усиливаться. Выходов для большинства не так много — либо вымещать эту проблему на слабых, меньшинствах, канализировать ее во внешнюю агрессию, войну, либо решать ее через радикальную гендерную трансформацию — как часть социальной.
Это самое сложное, но это не утопия. Подобный опыт (в соответствовавшем своему времени виде) у нас уже был 100 лет назад.
В России это десятилетие началось в 2011 году, когда случилась «рокировка». С нее мы отсчитываем новый маршрут.
В чем был основной сюжет этого десятилетия? Происходило много масштабных событий — протесты, Крым, Донбасс, санкции, чемпионат по футболу, аресты, разгром гражданских организаций и так далее. Очень много людей в изменившихся условиях продолжало свою гуманитарную, творческую миссию: одни — из теории малых дел, другие — из теории «большого революционного взрыва», а третьи — вовсе вне этого, а в культурной сфере.
При этом каждый день эта активность напарывалась не просто на рациональные действия властей, а на нечто вязкое, мрачное, двусмысленное и имеющее отношение к самой основе российской жизни. И все это чувствовали. Именно поэтому главными книгами десятилетия стали романы Сорокина, а многие институции, ранее безобидные, стали производить «публичный абсурд». Например, Военно-историческое общество — ложа, которая неформально управляет Россией, — именно в это десятилетие стало непрерывно источать поток шокирующего бреда про «традиционные ценности», реванш, русскую силу, «засыпать ядерным пеплом» и т.д.
Очень трудно найти концепт, обозначающий машину по производству всего это вязкого делирия. Но продукт производства этой машины молодежь обозначает словом «хтонь». По-своему это очень удачное слово. Оно было и до начала этого десятилетия в русском сленге, но не настолько активно.
Хтонь — это одновременно и нечто «автохтонное» (то есть не импортированное, а тут выращенное), и нечто «подземное» (то есть из темных глубин земли-матушки), и в юнгианском смысле «архетипичное».
Десятые годы трудно определить как единый и цельный период — как и в XX веке, они разделены на две части 14-м годом. Разница масштабов «разделяющих» событий неважна. Важно лишь то, что первые годы десятых и последние — два разных времени.
Знаковые слова первых годов — «селфи», «белоленточники», «котики», «хипстеры» — кажутся раздражающе старомодными. Период с 2014 по 2018 год — время мощного народного патриотического подъема и государственно одобряемой сословной розни. Наконец, после пенсионной реформы, значение и последствия которой мы даже себе пока не представляем (равно как и значение подъема НДС), сословия примиряются в единой несказанной и невысказанной печали; последние два года — время массового отстранения от общественного. Самозанятость, фриланс и вечерний сериал — вот основные занятия человека поздних десятых.
Частная жизнь и частная история важнее всего, только они и обсуждаются, по большому счету. В моде нью-феминизм. Его неожиданная популярность заметна даже в мелочах. В каждый период можно вычленить самую популярную выпивку своего времени, и во вторую половину десятых этот самый главный напиток — женский. Просекко (в крайнем случае — апероль) — вот вакхический символ десятых.
Главное слово — «обида». Дело даже не в постоянной сладостной оскорбленности, не в тонкой душевной организации офицера, казака, омоновца, чиновницы — нет, эти оскорбленности стали давно привычным делом (в цугундер бы не тянули, а так — что ж). Но выросло же поколение, для которого личная драма — это главный символический капитал. Даже г-жа Бузова, своего рода символ самопрезентации, сумела вырваться в лидеры именно после публичного страдания, несправедливого развода. Инстаграм — давно уже место не хвастовства, а психологической помощи и мотивационного подбадривания. Его бы в Инстадрам переименовать.
Двадцатые годы двадцатого века имели название «ревущие» — мне кажется, и в двадцать первом останется то же наименование. Рыдающее поколение уйдет в свое ревущее десятилетие обсуждать токсичных родителей (а шведский опыт подсказывает, что родители могут считаться токсичными во всех смыслах этого слова).
Это если повезет, разумеется, и мир, застывший в мучительном желании сохранить себя неизменным, еще немного простоит в самообмане и неподвижности.
Русский язык в последние десятилетия легко принимал англицизмы, превращая их в слова нормального обихода, склоняя, добавляя свои приставки и суффиксы (я лично больше всего люблю глагол «отксерить», который настолько прижился, что его даже проверка орфографии в Word признает).
Но вот «фальсифицированные новости» — по крайней мере, пока, по состоянию на конец 2019 года, — остаются «фейк ньюз» (ну хорошо, уговорили: иногда говорят «фейки»).
Феноменальный рост использования более чем сомнительного термина должен быть почти целиком отнесен на счет президента США Дональда Трампа, превратившего это словосочетание в оружие борьбы с газетами и телеканалами, которые его не любят. Поскольку все американское проникает в другие культуры под давлением американской же информационной и маркетинговой машины, fake news втерлись и в русский язык — равно как и в русскую жизнь второго десятилетия века.
Говоря кратко, в жанре словаря, fake news — это двусмысленность. С одной стороны — профессиональный термин, обозначающий специально придуманные ненастоящие новости, используемые для коммерческих, политических или развлекательных целей. С другой — риторическая концепция, используемая недовольным или возмущенным объектом информационной повестки (в диапазоне от расследования до огульной травли) в отношении своих критиков. «Fake news!» — кричит Трамп на каждое расследование российского вмешательства в выборы 2016 года. «Fake news», — вторит МИД РФ, добавляя, что и любые несанкционированные новости в России тоже fake (с официальной точки зрения).
Некоторые возводят fake news к советским информационным фальшивкам времен холодной войны, так называемым активным мероприятиям, которыми КГБ СССР занимался для ослабления влияния Америки — например, фабрикуя «доказательства» искусственного происхождения вируса иммунодефицита человека. Другие, более подкованные исторически, находят fake news чуть ли не в античности, не говоря уже о более близких эпохах после Гутенберга.
Но все же современные fake news не могли бы возникнуть и стать общеупотребительным термином без интернета и социальных сетей — их основной среды обитания, распространения и вредоносной активности. Более того, фейки стали неизбежными, мутируя в новое качество (deep fakes — изменение аудио и видео, делающее возможной фабрикацию любых цитат, признаний и разоблачений).
Так что с ними всем нам жить и жить, и русскому языку придется что-то делать с fake news — приделывать приставки и суффиксы, определять род и стилистические принципы использования этого гадкого, склизкого и дурнопахнущего термина.
Над материалом работали Ксения Ельцова, Андрюс Мишкинис, Ратмир Назиров, Мария Серкина, Анастасия Усачева.
ВЫБЕРИ ГЕРОЕВ ДЕСЯТИЛЕТИЯ. ГОЛОСОВАНИЕ
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда
12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея
11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»
2 марта 2022
18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам
Все новости В разлуке
В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен
28 ноября 202473069 В разлуке
В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым
22 ноября 202470578 В разлуке
В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах
14 октября 202472448 В разлуке
В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается
20 августа 202476655 В разлуке
В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»
9 августа 202476563 В разлуке
В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь
15 июля 202478324 В разлуке
В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым
6 июля 202479163 В разлуке
В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности
18 июня 202485456 В разлуке
В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова
7 июня 202483966 В разлуке
В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»
21 мая 202466795 Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials