 Colta Specials
Colta SpecialsПризнать симптом
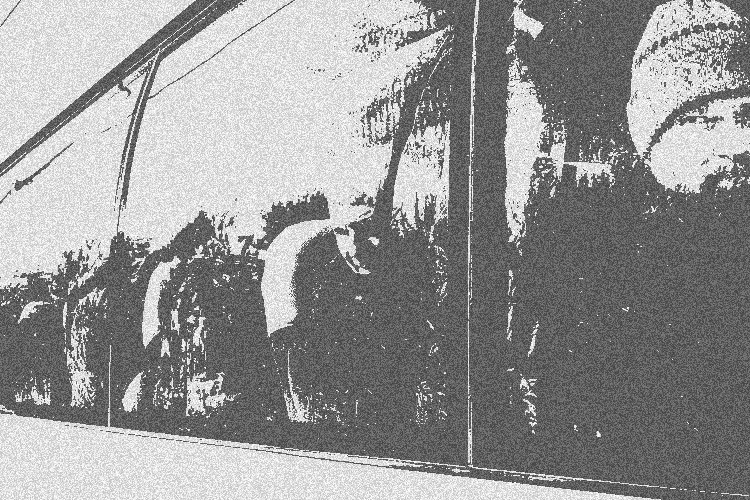 © Colta.ru
© Colta.ruПоследние годы мы наблюдаем печальное отчуждение русской и украинской культур, родственных и очень близких. Культурное общение — единственная возможность преодолеть политические разногласия. Мы исходим из идеи, что культура — высший плод человеческого пребывания на планете, а политика отражает лишь временные и преходящие обстоятельства истории.
Сергей Жадан — один из самых ярких писателей современной Украины, но в России его мало знают. Мы рады представить вам новый рассказ этого автора. Надеемся, что в ближайшее время удастся донести до читателей произведения и других украинских писателей, пишущих как на украинском, так и на русском языке.
Людмила Улицкая
«Худой, — говорил он себе, — Худой, ну ты даешь! Как ты им, интересно, собираешься это сказать?» Решил вообще не говорить. Посидел с отцом, посмотрел новости. Телевизор у них старый, цвета не то чтоб исчезли, но выблекли. Ведущие похожи на несвежую рыбу — темно-серые, с плохим запахом. Покрутился по комнате, вышел на кухню. На кухне все как всегда — что-то потеряешь, что-то найдешь. Кружки с коричневыми от чая небами, стаканы с недопитым соком, словно кто-то сцеживал в них липкую и медленную кровь. Вялая зелень, затупленные ножи. Прилепленные на холодильник фотографии — их семья, еще все вчетвером, отец смотрит напряженно, мама улыбается, Худой отвернулся, сестра вся какая-то заплаканная, будто уже тогда что-то знала. Стоят под деревьями, в парке, выбрались все вместе. Рядом — грамоты Худого за участие в соревнованиях. Именно за участие ему их обычно и выдавали. Словно это большая радость для организаторов — участие Худого. Открыл холодильник — кастрюля с остатками чего-то скользкого и влажного. Никто ничего не готовит, никто ничего и не ест. Иногда он думал, что холодильник они не выбросили до сих пор лишь потому, что отцу нужно где-то держать свои лекарства. Вернулся в комнату, вышел на балкон, покурил с сестрой. Солнце стояло за парком, тихим после обеда, небо было угрожающе прозрачным, ни малейшего сквозняка, ни малейшего ветра, будто город попал в яму и закончится все тем, что все здесь умрут от жажды и засухи. Сестра отводила с глаз золотые волосы, ее пальцы мелко дрожали. Три года прошло, а она все не может успокоиться, выбегает на балкон, глотает дым нежным горлом, с ненавистью смотрит куда-то за парк, на холмы, как тогда, три года назад, когда сообщили, что ее Капитана привалило плитой, прямо здесь, на соседней улице, во дворе базы. Худой ходил его забирать, хорошо все видел — черная, как у священника, сорочка, разбитые, будто у танцовщика, туфли, продавленная грудь, кровь в уголке губ, похожая на сосновую смолу. Мужчина после смерти должен выглядеть пристойно, одним словом. Сеструха и до того курила, а похоронив Капитана, перешла на сигареты Худого — крепкие и недорогие, от которых у нее темнели ногти. «Обедать будешь?» — она спрашивала это так, будто возражала, поэтому он и не стал отвечать. Оставил полпачки своих, сказал, что перезвонит. Лучше уж на улице пересидеть, чем с ними, подумал. Покопался в шкафу, из чистой одежды нашел только сорочку от выходного костюма и темные джинсы. В коридоре надел кроссовки. Достал рюкзак, отдающий дымом еще с весны, с последней вылазки на природу. Месяц назад, вспомнил он, да — месяц назад. Как будто в другой жизни. Еще раз принюхался к темным внутренностям рюкзака, закинул его назад, под вешалку с одеждой. Решил не брать ничего. И никому ничего не объяснять. Паспорт тоже решил оставить. Прошелся по карманам, нашел квитанции, кажется, за свет. Сначала хотел положить вместе с паспортом — сами заплатят, потом подумал — с чего им платить, забегу, все равно по дороге. Ключи положил возле зеркала, прикрыл за собой дверь. Долго ждал лифта, не дождался, сбежал по ступенькам, резко открыл дверь, оказался на улице, почти ослепнув от мягкого, как теплый пластилин, красного света. Хотел закурить, снова полез в карманы, вспомнил, что отдал свои сигареты. Как всегда, подумал, все самое вкусное — младшей сестре.
У них с сестрой были холодные ровные отношения. В детстве родители спокойно оставляли ее на Худого — он смотрел, чтобы она не выбегала из дома, а дома не трогала пса. Когда подросла, заступался за нее, патрулировал, если задерживалась в школе или бассейне. С ним старались не связываться — Худой уже в десятом классе имел скривленный на сторону нос, рассеченную в нескольких местах бровь, порезанные бутылочным стеклом ладони — был похож на циркового гимнаста, чья возможность карьеры непосредственно зависит от количества полученных травм и способности организма к ним адаптироваться. После смерти Капитана сестра почти ни с кем не разговаривала, с Худым тоже, и он ее не трогал. В их семье вообще никто никого не трогал: Худой утром убегал на работу, сестра работала через сутки, отец смотрел новости. Мамы и пса больше не было.
Почта оказалась закрытой, хотя до конца работы оставался час. Худой походил, позаглядывал в окна — пусто и тихо. За спиной кто-то проехал на велосипеде. Худой резко оглянулся — женщина с пустым бидоном, стукающимся о руль, словно рельса, подвешенная вместо колокола в недостроенной церкви, поспешила отвести от него взгляд. В городе в последнее время все выглядели испуганно, отводили глаза, если смотрели — то с подозрением. Все как будто чего-то ждали, зная, что тишина и покой, неожиданно накрывшие город в последние дни, — ненадолго. Небо лишь на первый взгляд было прозрачным и высоким, где-то там над самым горизонтом что-то постоянно двигалось, что-то происходило, какие-то воздушные потоки страгивались с места и вытягивались в сторону долины, приближались, наплывали. Что-то обязательно должно было случиться, и было непонятно, что с этим делать. Никто ничего и не делал, каждый лишь смотрел недоверчиво на прохожих, переводя взгляд вверх, туда, где аккумулировалась воздушная электрика. Худой любил именно эту летнюю пору, когда город выглядел не так печально, зелень мягко скрывала старые стены домов и кроваво-ржавую арматуру бывших цехов. Было много пыли, было много шелковицы. Когда берешь яблоко с земли, на зубах весело потрескивает песок и вокруг пахнет речной водой. В этом году все было иначе, зелень тоже вызывала подозрение: кто там в ней прячется, что там можно найти.
Худой достал телефон, посмотрел время. Ему сказали явиться ночью, чем позднее — тем лучше, чтобы лишний раз не светиться. Потоптался по улицам, вернулся к своему дому. Дом был высокий и прокаленный солнцем, словно парус. Сестра все стояла на балконе, курила, подставляясь солнцу. Вернусь — она даже не заметит, подумал. Не вернусь — то же самое.
Решил забежать к крестному. Обошел дом, свернул на хорошо утоптанную тропку. Черный твердый грунт был старательно усеян пробками от пива и драгоценно поблескивающим бутылочным стеклом. Через дыру в заборе попал на школьный двор, прошел по футбольному полю. Никто здесь давно не играл, но трава все равно не пробивалась сквозь намертво вытоптанную землю. Школа с мая стояла пустой. Прошел через школьный сад, пригибая голову под тяжелыми яблоневыми ветвями. Забежал в подъезд. Все ждал, что кого-то встретит, просто чтоб поздороваться. С крестным поздороваюсь — подумал, поднимаясь по лестнице.
Крестный открыл сразу, будто ждал его под дверью. Настороженно выглянул на лестницу — нет ли кого. Долго крутил ключами, закрывая обитую фанерой дверь на два замка. Провел Худого на кухню, даже не спрашивая, зачем тот пришел. Худой заметил, что он сильно сдал, еще больше поседел, красные глаза, словно долго плакал или не спал, нервно бегают по комнате, похоже, давно ни с кем не разговаривал, непонятно, когда вообще выходил из квартиры. Стол на кухне заставлен прошлогодней консервацией — запыленные банки с абрикосами и сливами, плавающими в густом цветном сиропе, как вынутые из животных внутренности. Сделаю чай, сказал крестный неуверенно, зажег огонь, поставил на него обожженный до черной сажи чайник, достал металлическую банку из-под конфет, в которой держал заварку. Банка оказалась пустой, наверное, он и вправду давно не выходил из дома, сидел перед Худым, крутил в руках пустую банку, а чайник все нагревался, и воздух наполнялся запахом горячей сажи. Крестный начал говорить, сбиваясь и перескакивая, пересказывал слухи, злился, ни о чем не спрашивал и про себя тоже ничего не рассказывал. Лишь путано что-то объяснял, говорил чужими словами. Худой разглядывал его сквозь желтое и малиновое стекло банок, наблюдая, как лицо крестного становится то малиново-вытянутым, а то янтарно-приплюснутым, и вспоминал, как в раннем-раннем детстве крестный приходил к ним домой — подтянутый и немногословный, в военной форме. Крепко жал руку своему куму, так же крепко — крестнику, то есть Худому, бросал быстрый невнимательный взгляд на женщин и шел на кухню, где они до полуночи сидели с отцом, разговаривая про международную политику и постепенно пьянея. Худому позволялось сидеть рядом с ними, слушать, но не мешать. Женщинам позволялось готовить им еду. Худой уважал крестного, любил его твердые ладони, любил здороваться с ним, расспрашивать про солдатский быт, про погоны и военные карты. Крестный никогда ему ничего не дарил, по крайней мере, Худой ничего такого не помнит, но крестный-военный сам по себе подарок судьбы, на что уж тут нарекать. Худой часто их сравнивал — крестного и отца, когда они сидели на кухне и хмуро ругали правительство. Сравнение, надо сказать, было не в пользу отца — даже в раннем детстве Худой не был уверен, что его папа сможет в случае необходимости всех их защитить. Но вот прошла целая вечность, и жизнь крепко их обоих потрепала, словно пес любимые игрушки. И отец, потеряв жену, время и работу, постоянно торчал в кресле, похожий на старое дерево, у которого каждый год отсыхают и отсыхают ветки. Но и крестный тоже превратился в задерганного пенсионера — в древних спортивках, в американской майке. Что хуже всего — стал многословным, говорил быстро и неубедительно, будто оправдываясь за что-то такое, чему все равно не могло быть оправдания. Их часть давно вывели, город теперь лежал под летним солнцем зеленый и беззащитный. Когда он умрет, подумал Худой, мне придется его хоронить. Надевать на него парадную форму, договариваться с гробовщиками. Форма, наверное, будет ему велика. А гробовщики, очевидно, будут нетрезвыми.
Крестный так ни о чем и не спросил. А начинать самому не хотелось. Худой заспешил, закрутился на стуле, пообещал перезвонить. Крестный молчал, долго глядел в окно, после чего сказал — ты бы зашел к Зое, что-то ей совсем плохо. Зайду, пообещал Худой, конечно, зайду, почему же не зайти. И правда, подумал он, идя обратно через школьный двор, почему бы не зайти. Солнце откатилось по направлению к ночи, пыль оседала на яблони и траву, становилось прохладней и неспокойней. На востоке все же появились тучи — медленные и темные, как оглушенные рыбы в речной воде, хотя над городом еще стояли вечерние солнечные лучи. Хорошо, подумал Худой, зайду. Кто ее знает, когда она надумает помереть. Вышел на проспект, завернул за первый дом, побежал через пустой двор — темно-зеленые баки с разноцветным, давно не вывозившимся мусором, яркие качели и горки на детской площадке, старательно изувеченные, развешенная на веревках постиранная одежда, майки и сорочки — желтые, словно снятые с покойника.
Зоя не открывала, слышно было, как подошла к двери и долго его разглядывает. Спросила, кто он, Худой объяснил, Зоя не поняла. Но впустила. Стояли в коридоре, глядели друг на друга — Худой заговорил первым, чтобы не выглядеть таким смущенным, мол, зашел проведать, ненадолго, сейчас уйду. Зоя слушала внимательно, но все равно не узнавала. Худой, честно говоря, тоже не узнавал ее — остатки редких седых волос на голове, желтое вымученное лицо с глубокими темными морщинами, словно старая кожаная перчатка, влажный взгляд, тяжелое дыхание, старый халат, длинные высохшие пальцы. К тому же она была в разных тапках! Худой смотрел на ее скрюченные пальцы и вспоминал, что в детстве его всегда пугал ее маникюр — Зоя, их классная, ногти всегда красила в яркие цвета, и когда она брала в руки кусок мела, чтобы записать для них — учеников младших классов — какое-нибудь слово, все следили не столько за написанием слова, сколько за яркими ногтями, которые делали ее еще более холодной и жестокой. Она действительно такой и была — холодной и жестокой. Сколько крови детской попила, страшно подумать. Но вот Худого почему-то любила, хотя учился он плохо, а вел себя еще хуже. Наверное, понимала, что лучше иметь в союзниках именно его, Худого, который в случае чего может навести порядок и организовать учебный процесс. Сильная и несгибаемая, постоянно ссорилась с директором, что-то доказывала, защищала своих, которых перед этим безжалостно опускала. Никаких уступок, никаких шуток — железная сорокалетняя машина с красными ногтями, которыми безжалостно крошила беспомощный мел, повернувшись спиной к испуганным детям. Староватая для того, чтобы чувствовать себя счастливой, недостаточно уставшая, чтобы с этим смириться. Потом, уже в старших классах, время от времени останавливала Худого в школьных коридорах и ледяным голосом объясняла, как именно тому следует жить и о чем именно стоит подумать. Кого-нибудь другого он бы и слушать не стал, но вот перед Зоей останавливался, смотрел в пол, бросал взгляды на ее длинные ноги, на которых уже проступали тяжелые темно-синие вены, слушал, энергично кивал. Последние годы ее не видел, слышал только, что уволилась, сидит дома, болеет. Чем именно болеет, Худой не интересовался, какая разница, чем — все болезни рано или поздно оканчиваются смертью. Но не знал, что все так плохо — Зоя даже не постарела, Зоя просто доживала. Причем непонятно, для чего. Зоя слушала, потом повернулась, побрела в комнату, Худой пошел за ней. Комната напоминала аквариум, в котором давно не меняли воду. Пахло лекарством, одеждой, воздух был желтоватый от последних солнечных лучей, пробивающихся сквозь старые шторы. Зоя упала на диван, тяжело дышала, попросила воды. Худой вышел на кухню, нашел металлическую кружку, открыл кран. Вода в кране тоже была желтой. Постоял, закрыл кран, тихо, стараясь не шуметь, вышел на лестницу, спустился вниз, на улице долго переводил дыхание, подставляя лицо вечернему сквозному ветру, становившемуся все ощутимей. Погода менялась, вдруг все стало темным, ветер рвал траву в западном направлении. Дождь начнется, подумал Худой, выбежал на проспект, перескочил через дорогу, удивляясь отсутствию какого-либо транспорта, пробежал мимо молочного, остановился возле киоска, хотел купить сигареты. Киоск не работал, окошко изнутри было залеплено картоном. На остановке должен работать, решил Худой, свернул дворами, чтобы срезать, бежал, чувствуя, как накатывает паника, как сжимает горло и начинает разрываться сердце. Темнота опускалась все ниже, хоть ветер был ранний, и на западе небо отсвечивало красным и синим, а тут, над их ямой, остановилась темнота, обещая залить все черными потоками, наполнить все илом и мокрым песком. Странно — всю свою, не такую уж длинную, жизнь он бегал, по-настоящему бегал — ходил на секцию, отец еще ругался: что это за спорт такой? Бегай с шестом хотя бы, или с эстафетной палочкой, или прыгай через барьеры. Что за радость — бегать по кругу? Но Худой бегал и бегал, сколько было нужно, бегал, не видя ничего вокруг, рассчитывая силы и надеясь на победу. Бегал за школу, бегал за институт. Потом, конечно, бросил — не всю же жизнь бегать, нужно когда-то и остановиться. Но вот оказалось, что когда остановишься, побежать снова не так просто — Худой стоял прямо посреди дороги, что тянулась от дворов до проспекта, стоял, тяжело согнувшись, упершись руками в колени и восстанавливая дыхание. Все, думал, вернусь — брошу курить, пойду опять на стадион. Тридцать лет, задыхаюсь, как рыба на песке. Вернусь — начну все сначала.
«Саша», — вдруг окликнули его. Худой оглянулся — сзади стояла Анька, смотрела на него удивленно, не ожидала его тут увидеть. Джинсы, ветровка, волосы, собранные в хвост. В руках тяжелые пакеты из супермаркета. «Что ты здесь делаешь?» — спросила. Худой перевел дыхание, успокаиваясь. «Давай помогу», — сказал, забирая пакеты. Анька молча передала ему пакеты, развернулась, пошла домой. Худой двинулся следом. Жила она в соседнем доме, совсем рядом, хотя с этими пакетами идти не так и просто, к тому же Анька впереди почти бежала, опасливо поглядывая вверх. Забежали в подъезд, поднялись по лестнице, Анька подбирала ключи, молчала, даже не смотрела на него. Зайдя, кивнула ему головой — иди на кухню, подожди. Худой вошел, поставил пакеты на пол. Сахар, соль, крупа. В случае чего хватит надолго, подумал. Можно пересидеть, переждать, пока все закончится. Если закончится.
В последний раз он был здесь год назад, прошлой весной. Они уже не жили вместе, но накануне созванивались, закончилось тем, что Анька просила его больше никогда не приходить. Потом сама перезвонила, попросила зайти. Худой ничего не понял, но зашел. Остался на неделю. Но потом все равно ушел. Лучше было не оставаться, злился потом на себя, зачем пытаться избежать того, чего все равно не избежишь. Интересно, думал он теперь, глядя в окно, где черным густым воздухом затягивало остатки закатных огней, — как она теперь живет? И с кем? Наверное, одна, раз некому таскать пакеты из супермаркета. За год она не изменилась. И на кухне у нее ничего не изменилось — та же армейская прибранность, ледяной порядок операционной на обеденном столе. Худой вспомнил свою кухню, хриплый пустой холодильник, который хотелось обнять и пожалеть, и подумал, что, может, стоит вернуться домой. Или остаться тут. Хотя бы на неделю.
Она пришла и, не глядя на него, стала вынимать продукты из пакетов. Успела переодеться, накинула на себя домашний халат. Когда они жили вместе, она всегда в нем валандалась по дому. Иногда ничего под него не надевая. Иногда так выбегала во двор, выносила мусор. Соседи немели, Худой нервничал. Но сейчас у нее под халатом была темная водолазка, что аж сжимала ей горло, не давая дышать и плакать. Молча вытаскивала пачки с крупами, макароны, порезанный хлеб, молча кидала это на стол. Даже не глядя на Худого. Худой тем не менее бросился ей помогать, перехватил туго набитую пачку песка, но так неловко и торопливо, что не удержал, и пачка выпала у него из рук, звучно разорвавшись на кафельном полу — начищенном, как посуда, которой пользуются разве что в праздники. Сахар глухо взорвался, засыпая все вокруг белой сладкой пылью. Худой замер, глядя завороженно и не зная, что сказать. И Анька, тоже притихнув, смотрела на белые кристаллы под своими ногами, а потом присела и уткнулась лицом в ладони, тяжело и горько рыдая. Худой растерялся, склонился над ней, попробовал дотронуться до ее плеча, но она сбросила его ладонь резким нервным движением, рыдая все громче, так, словно ей действительно было жаль этого сахара, которого ей должно было хватить до конца дней. И он уже хотел сказать ей что-то, успокоить, поддержать, мол, ну что ты плачешь из-за какого-то сахара, мне бы твои проблемы, ты же не знаешь, что у меня, ты же даже меня ни о чем не спросила, так давай я тебе расскажу, давай расскажу, что у меня, и ты сразу успокоишься и забудешь про этот никому не нужный сахар, давай, давай.
Но она заговорила первая. Ненавижу, сказала, ненавижу всех вас, видеть вас не хочу, знать не желаю. Ненавижу! Успокойся, растерянно попробовал остановить ее Худой, не плачь, все будет хорошо, вот увидишь, давай я тебе про себя расскажу, давай. Но она не то чтобы хотела его слушать, она наоборот — слушать его совсем не хотела, она хотела, чтобы слушал он. Ненавижу, повторяла сквозь слезы, ненавижу, как с вами можно жить, вы же никого не любите, никого не видите, вам же все равно, что будет, все равно, что было. Сидите по своим норам, выбираетесь только в магазин, не видите ничего, готовы съесть друг друга. Худой не совсем понимал, про что она говорит, и попробовал снова дотронуться до нее, как тогда — год назад, когда она вот так же что-то кричала, а он просто подошел и коснулся ее, и остался после этого на неделю. И он опять дотронулся до ее плеча. Но она сразу подняла голову, встала, вытерла слезы и мокрой ладонью показала ему на дверь — уходи, сказала. Уходи и никогда сюда не приходи. Когда он выходил, сахар сладко потрескивал у него под ногами.
Вышел на улицу, прямо в темноту, под тяжелый воздух. Тут откуда-то из-за угла выскочил пацан, тащил за собой испуганного пса, сам тоже испуганный не меньше пса. Стоять, остановил его Худой. Стрельнул закурить, отпустил. Парень отошел неохотно — было заметно, что рядом с Худым они, вместе с псом, не так боятся. Что дальше, решал Худой: идти еще рано, стоять тут, дожидаться дождя — неразумно. Про что она говорила? Кого она ненавидит, кого не желает знать? Нужно ей перезвонить, успокоить, вернуться к ней. Худой достал мобилку, увидел пропущенные, вспомнил, что звук выключил еще с обеда, чтоб не нервировать отца. Девять пропущенных. Настойчиво. Звонил Мустафа, когда-то он был парнем сестры, теперь вот его, Худого, кум. Худой набрал номер, слушал гудки, поглядывая на верхушки деревьев, которые мотало, как водоросли в быстрой воде. «Привет, — Мустафа говорил четко, ждал его звонка, знал, что говорить. — Зайдешь? Есть разговор». «Сейчас буду», — коротко ответил Худой.
До Мустафы бежать минут десять, это за парком, в частном секторе. Худой пробежал через двор, пересек улицу, над которой отчаянно раскачивались троллейбусные провода, миновал пустой базар, в последнем живом киоске спросил сигарет, но там уже ничего не было, пришлось бежать дальше. Улица была длинная, ветер вздымал черную землю и волок ее по остаткам асфальта, Худой бежал, считая золотые окна в мазутной темноте. Мустафа ждал возле ворот. Провел во двор, подтолкнул к двери. Тесный каменный дом, стены в коврах и иконах — Мустафа активно верил в Бога, в церковь ходил, как на работу — регулярно. Лиза, его жена, только молчала. Вообще говорила, только когда ее спросят. Но о чем ее спрашивать, если она все время молчит.
Худой вошел в комнату. Стол был завален свежими теплыми плодами и зеленью из сада, сразу видно — частный сектор. «Пошли, — сказал Мустафа, — посмотришь на крестника». Прошли в соседнюю комнату. Худой стоял и молчал, глаза привыкали к темноте. Славка, его крестник, уже спал на металлической кровати, укрытый теплым одеялом. Над ним висел темный тяжелый ковер, похожий на флаг какой-то пиратской республики. На столике возле кровати стояла икона Святого Мыколая, словно портрет президента на рабочем столе у губернатора. Худой плеснул Мустафу по спине, мол, увидел, пошли. Мустафа не прекословил — посадил Худого за стол, «самогон будешь?» — спросил. Еще дела сегодня, завозражал Худой, но Мустафа даже слушать не стал. Разлил самогон в золоченые и узорчатые чашки, выпил сам, подождал, пока выпьет Худой, схватил со стола яблоко, люто в него вгрызся, прожевал, заговорил. Говорил тихо, так, будто хотел, чтоб никто его не услышал. Возможно, не хотел разбудить малыша.
Я ничего не боюсь, шептал, угрожающе размахивая надкушенным яблоком. Ничего. Я тут родился. Тут умру. Мне здесь ничего не страшно. И нечего меня пугать. Знаешь, что держит человека? Как это — не знаешь? Вера. И церковь. Вот ты не ходишь в церковь и поэтому боишься, а я хожу — и не боюсь. Единственное, за что боюсь — за Славку. Ему расти, ему становиться человеком. А так — не боюсь, понимаешь? Худой хотел его поддержать, хотел добавить что-то от себя, хотел в чем-то уверить, но вдруг передумал. Что я ему скажу, думал, глядя, как Мустафа нервно заглядывает к малышу, как снова разливает, как испуганно выглядывает в ночь, где темнота терлась об окна тяжелыми боками, как затем снова начинает бесстрашно шептать про страх и церковь, про детей и политику и про смерть, про смерть, про смерть, которая никого не минует, всем достанется, между всеми разделится. И будто в подтверждение его слов за окном взорвался воздух, осыпаясь сверху тысячью мелких кусочков темноты и шума, обвалилось на крышу, разорвалось в черном вареве. Началось, произнес Мустафа и бросился во двор. Худой тоже поднялся, прихватил банку с чашками и пошел следом. Вышел на веранду, замер рядом с Мустафой, в шаге от дождевых потоков, заливающих все вокруг, заполняя собой мир, словно просторную ванну, все выше поднимаясь по ее прохладным стенкам. И ветры болтались в этой воде, словно пойманная рыба, которую принесли с реки и выпустили в ванну, чтобы смерть рыбы была не такой быстрой и болезненной. Будто медленная смерть менее болезненна, менее смертельна. Мустафа смотрел в ночь и молчал, достал сигареты, поделился с Худым, курил, выпуская дым в хриплую влагу ночи. «Ты как? — спросил наконец Худого. — Что делать будешь?» «Не знаю, — не захотел отвечать Худой, — видно будет». «Видно будет», — согласился с ним Мустафа, повернулся и тяжело пошел в дом. «Давай, докуривай», — крикнул Худому уже из комнаты. Но Худой не спешил. Наблюдал, как вода наполняет собой весь этот невидимый частный сектор, все проспекты и пустыри города, все шахты и комбинаты, все кладбища, на которых остается еще так много свободного места.
Когда вошел в дом, Мустафа уже спал. Сидя, как в зале ожидания. Потом договорим, подумал Худой, выключил свет, нашел в темноте свой стул и тоже заснул. Дождь падал ровно и тяжело, за таким дождем хорошо наблюдать на расстоянии, как за большим ученым животным в цирке, — удивляться и пугаться, ничем на самом деле не рискуя. Нужно включить звук на телефоне, вспомнил Худой. И сразу заснул.
Проснулся сразу же. Только что закрыл глаза и тут же их открыл, так ему показалось. Но сразу понял, что уже проспал. Достал телефон. Почти пять часов. Подхватился, злясь на себя самого, нашел на столе бутылку с водой, долго и жадно пил. Мустафа спал, склонив голову набок. Худой заглянул к Славке. Тот спал, доверчиво кутаясь в горячее одеяло. Святой Мыколай контролировал. Худой тихо прошел по комнате, осторожно закрыл за собой дверь. На ступеньках столкнулся с Лизой. Та испуганно вскрикнула, но, узнав Худого, успокоилась. «Уже уходишь? — спросила. — Может, тебя покормить?» «Опаздываю», — объяснил Худой. «Ты, главное, его не слушай, — кивнула Лиза в сторону дома, имея в виду, по-видимому, Мустафу. — Это он сам себя убеждает. На самом деле уезжаем мы отсюда, все вместе». «Как уезжаете?» — удивился Худой. «Так, — подтвердила Лиза, четко выговаривая слова холодными губами, — завтра. Он уже и билеты взял. Говорит, что это ради Славки, что сам бы не поехал. Но брешет, ты ж его знаешь». «Знаю-знаю», — подтвердил Худой. Несколько принужденно обнял Лизу, прихватил на ступеньках отсыревшие сигареты, выбежал на улицу. Славка был тихий и послушный. Постоянно занимался чем-то своим — книгами, игрушками, старым телефоном. Всегда на все соглашался, всегда всему радовался. Радовался, когда Худой приходил, радовался, когда он уходил. Худому казалось, что он очень внимательный и наверняка много всего понимает. Вот только сказать не может. Потому что вообще не говорит, от рождения.
Нужно было оставить квитанции, лихорадочно вспоминал Худой, когда бежал сквозь густой мокрый туман. Где-то вверху воздух высвечивался, можно было понять, что уже утро, что ночь прошла, и дождь прошел, но туман стоял так плотно, так тяжело, в нем было так легко потеряться, что Худой уже и не надеялся куда-нибудь прибежать. Но все равно бежал, бежал, опаздывая, попадая в лужи, вода в которых была цветной и ледяной. Еще и бежать нужно было почти на другой конец города, сборный пункт находился за автовокзалом, так что Худой сосредоточился и побежал еще быстрее, стараясь не сбиться с пути. Главное — добежать, думал, главное — успеть. Вернусь — заплачу, вернусь — со всем разберусь — всем помогу — никого не забуду. Помогу отцу, помогу крестному, похороню Зою, вернусь к Аньке, куплю крестнику новый телефон. Всю жизнь бежать, всю жизнь стараться что-то догнать в этом пустом, как консервная банка, городе, откуда все стараются убежать. Вернусь и всем помогу, вернусь — и все устрою. Бежал, чувствуя, как тяжелеют от воды кроссовки, как набухает потом и влагой праздничная сорочка, как туман забивает легкие. Выскочил на перекресток, рванул на невидимое в тумане красное, чуть не попал под колеса какого-то таксиста, добежал до привокзальной, из последних сил ускорил бег, обежал бетонную коробку вокзала, тяжело дыша и едва сдерживая в себе свое сердце. В тумане стояло несколько «Лазов». Вокруг бегали мужчины, кто-то стоял и отдавал команды, кто-то докуривал, прежде чем сесть. Успел, обрадовался Худой и пошел на голоса. Подошел, узнал кого-то из своих, попросил у кого-то закурить, нашел старшего. Старший злился, но, проверив списки, нашел Худого, отметил, сказал залезать в автобус. «Оружие дадите?» — спросил Худой. «Какое оружие, — скривился старший, — залезай давай». Худой неохотно полез, других тоже постепенно начали загонять. Много было мужчин старшего возраста, сонных, невыспавшихся, просто одетых. Худой в своей белой, хоть и мокрой, сорочке выглядел как свидетель на свадьбе. У кого-то были пакеты с едой. Кто-то рассовывал по карманам сигареты. Алкоголя ни у кого не было. Оружия тоже. Какой-то студент вытащил из пакета новый флаг, попробовал развернуть, но и сам понял, насколько он здесь не в тему, скомкал, спрятал назад. Все напряженно молчали, кто-то старался глядеть холодно и уверенно, но в таком разбитом автобусе среди такого тумана это не очень-то получалось. Зашел старший, не посмотрев на них, дал команду водителю. Автобус поехал. За ним — остальные. Худой достал телефон, включил звук. Думал кому-нибудь перезвонить. Понял, что некому.
Перевод с украинского Елены Мариничевой
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда
12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея
11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»
2 марта 2022
18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам
Все новости Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Журналистика: ревизия
Журналистика: ревизияРазговор с основательницей The Bell о журналистике «без выпученных глаз», хронической бедности в профессии и о том, как спасти все независимые медиа разом
29 ноября 2023103386 Журналистика: ревизия
Журналистика: ревизияИзвестный публицист о проигранной борьбе за факт и о конце западноцентричной модели журналистики
17 ноября 202396715 Журналистика: ревизия
Журналистика: ревизияРазговор с главным редактором независимого медиа «Адвокатская улица». Точнее, два разговора: первый — пока проект, объявленный «иноагентом», работал. И второй — после того, как он не выдержал давления и закрылся
19 октября 202367114 Журналистика: ревизия
Журналистика: ревизияНи с теми, ни с этими. Известный журналист ищет пути между медийными лагерями и обвиняет оппозиционно-эмигрантский в предвзятости
10 октября 202394018 Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials