 Современная музыка
Современная музыкаНочной сеанс
Музыка для фильмов, полных тайн: новый проект Video Salon певицы Гали Чикис, переехавшей в Берлин, и калифорнийского электронщика Брайана Пайла
18 мая 2017799
Разговор Ивана Крастева с Глебом Павловским можно прочесть разными способами. Можно, например, сосредоточиться на суждениях о недавнем прошлом и на исторических и биографических описаниях как способах понимания природы существующей власти — или прочесть просто как политический текст, целиком сосредоточенный в текущем моменте, для обоснования позиции в котором используется соответствующий способ видеть/говорить о прошлом.
Другой, более любопытный в наше время (склонное любой текст соотносить не столько с политическим, сколько с «отношением к власти»), вариант прочтения — биографический: рассказ Павловского о своей жизни так, как она видится или как ее хочется представить публике из перспективы сегодняшнего дня, поскольку проживаемое не только добавляет «новые факты» в биографию, но и обстоятельства, переопределяя прошлое. Биография меняется через продвижение живущего во времени — меняя значение прожитого, его смысл и, что бывает гораздо важнее, интонации: прошлое оказывается подвижно и само имеет историю — или, точнее, история, собственно, и есть движение прошлого.
И с этой точки открывается иной, гораздо более интересный, ракурс — проговаривание и прояснение, что значит в оптике Павловского «жить в истории», этика и эстетика существования в историческом — сама меняющаяся во времени и преобразующая его.
Разговор невероятно богат не столько на детали, сколько на образы и сравнения — но экономность детали работает на нее, придавая ей особую выразительность. Так, в рассказе об Одессе 50-х центральным делается эпизод со стариком часовщиком с парализованными ногами, за которым ухаживала жена:
«Вот их история: в 1941 году он попал в румынский лагерь, чинил там часы начальству, и под конец комендант его отпустил. Лурье говорит: “У меня тут жена” — комендант разрешил забрать и жену. Первую женщину, встреченную по дороге к воротам, Лурье захватил на свободу, и она с ним осталась до смерти» (стр. 22).
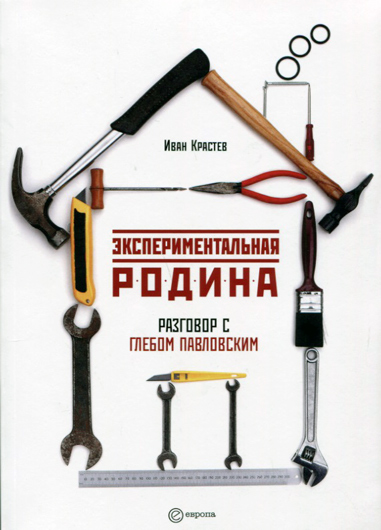 © Европа, 2018
© Европа, 2018Небольшая книга оказывается предельно сжата, свободна от необязательности рассказа — это разговор, разворачивающийся в плоскости не повествования, а осмысления, отсюда и редкость детали: появляющийся в биографии очередной персонаж не описывается, вводясь одной репликой, а становится еще одной точкой для работы над историей. В этом языке звучит герценовская мемуарная проза — прошлое, «былое», существует лишь в едином потоке с «думами» и свободно от иллюзии автономности, которую создает хроникальное повествование, — оно существует исключительно в современности, и разные слои прошлого высвечивают неоднородность и поверх нее — связность опыта.
Двадцатый век (по крайней мере, в России) сталкивает человека с историей — приходится пытаться либо сбежать из нее, найти некое укрытие, либо найти способ поместить себя в нее, историзировать себя. Павловский рассказывает: «С детства я знал, что живу в промежутке двух апокалипсисов — 1917 года и грядущего, картина которого неясна» (стр. 29). История в этом смысле оказывается постоянным завершением, самоотменой — «прошлое» существует как то, что обеспечивает, гарантирует или дает надежду на его отмену. Отсюда — невозможность дома, которую трудно принять — как отмену само собой разумеющейся рамки, но чему сопротивляться невозможно — то есть возможности обретения некоего защищенного пространства, связывающего дом с телесной неприкосновенностью. Как последняя утрачивается в опыте насилия, так и дом обрушается обыском: «он меняет отношение к дому — отныне знаешь, что любое твое убежище неверно и может быть вдруг захвачено. <…> Меняется ощущение места, и чувство телесной защищенности уходит навсегда. <…> Гефтер как-то сказал, что вопрос о своем доме — это основной вопрос советской философии. <…> Со временем я привык, что мне в моей стране дома нет и незачем пытаться» (стр. 143, 144).
Научиться жить на сквозняке истории значит либо соотнести себя с некими «большими смыслами», разворачивающимися во времени, которые воспроизведут рамку «дома», создав иллюзию его обретения в свободе от собственного опыта (в первую очередь — телесного), либо найти в историческом возможность для собственных смыслов, частных, конкретных — возвращающих к себе, теперь уже вне всякой обеспеченности собственного существования во времени. Павловский и описывает, раскрывает свой собственный опыт, свои, если угодно, техники сосуществования, где одним из наиболее часто повторяемых слов (при изменчивости находимых в себе прошлых больших форм осмысления) оказывается «интересно».
«Интересно» освобождает от надежд и полагания себя в конкретной цели — история свободна в своих результатах от тебя, хоть и творится и тобой, и через тебя, — но через «интерес» оказывается возможно связать и действие с наблюдением, и способность жить в истории с одновременным пониманием, что мир истории может оказаться нечеловеческим.
Тем самым историчность увязывается с наблюдением — возможностью не столько помнить о сделанных выборах, сколько помнить о том, что эти выборы сделаны тобой, то есть через постоянство, изъятие из времени себя как субъекта истории, что только и позволяет быть последним. Из чего рождается противоположность «интеллигентскому» размыванию себя в истории, в «однообразной пошлости измен»:
«Последовательно забывая о каждом сделанном выборе, интеллигент коррумпирует поле опыта» (стр. 210).
Память, преобразующая «случившееся» в опыт и сохраняющая связь между случившимся и собственным действием, выбором, той рамкой, которую сам налагал на реальность, обращает историю в способ освобождения — вместо освобождения от истории она сама теперь оказывается свободой, избавляющей от «безальтернативности»:
«Безальтернативность — мой вечный философский враг. Выражение “иного не дано” — квинтэссенция всего, что я ненавижу. <…> Безальтернативность часто значит навязывание себе плохого, но простого решения как единственно правильного. Все это трюки слабости» (стр. 227).
И здесь обнаруживается еще один ход связи человека с историческим: «мне важно оставаться разным, только это спасает от самого себя» (стр. 240), т.е. от того постоянства неисторического; история дает возможность разности, растождествления с самим собой — то есть дает возможность быть собой в альтернативах.
Иван Крастев. Экспериментальная родина. Разговор с Глебом Павловским. — М.: Европа, 2018. 272 с.
Понравился материал? Помоги сайту!
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда
12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея
11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»
2 марта 2022
18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам
Все новости Современная музыка
Современная музыкаМузыка для фильмов, полных тайн: новый проект Video Salon певицы Гали Чикис, переехавшей в Берлин, и калифорнийского электронщика Брайана Пайла
18 мая 2017799 Медиа
Медиа Современная музыка
Современная музыкаЗнаменитый джазовый пианист о культуре России, Большом зале консерватории и селфи на сцене
17 мая 2017672 Кино
Кино Colta Specials
Colta SpecialsRolling Stones, БГ, Элис Купер, Гарик Сукачев, Роджер Уотерс и другие на фото и в рассказах Игоря Верещагина
16 мая 2017765 Современная музыка
Современная музыкаИзвестный американский пианист-импровизатор — о методе спонтанной композиции, дуэте с Иво Перельманом и расставании с лейблом Thirsty Ear
16 мая 2017375 Медиа
Медиа Colta Specials
Colta Specials Современная музыка
Современная музыкаВ Киеве состоялся конкурс «Евровидение», неожиданный финал которого российский телезритель не увидел впервые за много лет. Как были нарушены евростандарты
15 мая 2017433 Colta Specials
Colta SpecialsСоздатель Игнобелевской премии Марк Абрахамс — про рождение науки из внимания к мелочам, уток-некрофилов и вредное для медицинской карьеры мытье рук
15 мая 20171224 Театр
Театр Colta Specials
Colta Specials23 мая в СК «Олимпийский» с Москвой попрощаются Aerosmith. Вы ничего не упустили в истории классиков американского хард-рока?
15 мая 20172739