 В разлуке
В разлукеРазговор c оставшимся
Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен
28 ноября 202476529 © Александр Любин
© Александр ЛюбинОбложка книги Ивана Дмитриевича Чечота сразу же напоминает о мемуарах Эрнста Юнгера, изданных «Владимиром Далем». Юнгер действительно появляется в 6-м разделе книги Чечота, в «Географии Фауста. Путеводителе воображения»: «Гитлер на парижском ветру у дворца Трокадеро, наивный, завистливый, восхищенный… Эрнст Юнгер, бесстрашно откупоривающий шампанское под американскими бомбами в 1944 году» (с. 525). Итак, «В стальных грозах» и «Излучениях». Внутри — терракотовая бумага из гаммы Остии, присвоенной ЭУРом (молочное, черное, кирпичное), или же из Херсонеса Таврического: кому куда ближе. В отличие от обложек Юнгера, обложку Чечота вместо портрета автора маркирует лабрис, минойский ритуальный топор с двумя лезвиями. Однако и портрет И.Д. есть: на фронтисписе он бредет по заснеженному берегу в костюме выдры, вооруженный багром. По всей видимости, образ художника-перформансиста значительнее и ближе к делу, чем партикулярное лицо историка искусства, в этой книге, посвященной «европейской проблеме личности» ХХ века.
Личность фатально раздвоена, как напомнил И.Д. на презентации книги, держа речь и сделанный по спецзаказу лабрис. Собственно, лабрис и есть, по мнению И.Д., символ раздвоенности, хотя принято думать, что критский топор указывает, как и древнейший мутант — двуглавый орел, на абсолютную власть: сечет налево и направо. Аглая Ивановна Чечот, составительница книги отца, хотела было привлечь его внимание к актуальному пониманию символа лабриса — к эмблеме феминисток, в которой лабрис читается как матка (ну или единство мужского и женского). Но И.Д., потрясая длиннющим древком своего орудия, решительно отказался видеть в нем женский символ, уверяя, что в двух лезвиях отражаются противоречивые свойства фаустовской души: неудовлетворенность и тревога, которым не сдержать порыва к истине и совершенству.
Источник тревоги — разобщенность объективного и субъективного. В пространстве книги они соединяются лишь однажды в самом начале в одухотворенной живописи гения-Рембрандта и несут благодатное освобождение из одиночки-однушки индивидуального: «Во многих, если не во всех, произведениях Рембрандта, особенно в его портретах, видно, как человек и стоящий за его спиной Бог — оба улыбаются нам в лицо. <…> Под улыбкой я понимаю, — рассказывает И.Д., — отнюдь не столько улыбающееся лицо, сколько присутствие движения внутри некоего целого, преломляющего индивидуальное начало. Это касается вообще ритма, процесса дифференциации формы, жизни формы. Личность одушевляется в улыбке, душа расцветает в ней, расставаясь с ограничениями. Все искусство Рембрандта, но особенно жизнь с ее многослойностью, переливчатостью, прозрачностью, пронизано улыбкой-музыкой освобождения от плена личности» (с. 41—42). Так сказано в тексте «Бекман и Рембрандт. К европейской проблеме личности», открывающем книгу и посвященном памяти Бориса Алексеевича Зернова.
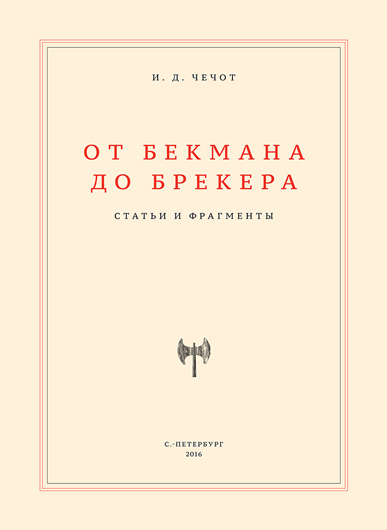 © Сеанс, 2016
© Сеанс, 2016Б.А. Зернов, большой оригинал, слыл самым умным человеком Эрмитажа в последней трети ХХ века. Разговор с Зерновым, идущим из столовой через фойе театра, мог за минуту перенастроить восприятие великого музея. Он нес, колыхаясь на ходу всем своим огромным телом, такую волну тепла, что всё вокруг — грандиозная живопись, сияющий императорский гламур — вдруг делалось живым, словно красивейшие деревья в лесу, как если бы Зернов оленем рассекал дубраву. Неформальный авторитет Зернова основан был на редкостной личной свободе слова и поведения, имевшей место — а это все знали на себе — в не самых свободных обстоятельствах. Зернов любил рассказывать, что в детстве, когда он шалил на улице и не слушался маму, она ему говорила: «Боря, вон стоит постовой милиционер, пойди к нему и попроси себе другую маму». Обычно детей пугают тем, что отдадут их, а здесь мать готова замениться на более соответствующую: проблему личности решает уполномоченный всего человечьего общежития, но остроумная мама Бориса Алексеевича придумала, как в этой казарменной истории настроить ум сына живо и парадоксально.
Как видно из случая с трактовкой лабриса, И.Д. смотрит на вещи нетривиально, обладает талантом освободить восприятие от штампов. Представленные в книге аналитические биографии и этюды о творчестве Макса Бекмана, Арно Брекера, Отто Дикса, Кете Кольвиц дают возможность посмотреть на них на всех другими глазами, как, впрочем, и на исторические обстоятельства их жизни. Исторические обстоятельства побуждали каждого из них в той или иной степени искать опору вне себя. И таких опор было на выбор три: искусство — или искусство на службе у классовой революции или же у национального государства. На фоне принудительного лаконизма исторического выбора Чечот в каждом отдельном случае создает поразительно подробный рисунок личности, который сначала словно бы растворяет в себе жесткие направляющие той истории, чтобы затем их снова проявить, но уже в других — сегодняшних — конфигурациях. Существенной частью книги являются превосходные переводы Чечота из Готфрида Бенна и Юлиуса Лангбена, в которых, если выразиться словами Бенна, тексты, подобно кораблям, сами находят свои гавани, то есть направляющие истории в них выглядят написанными ею самой, объективными, или, точнее, объективированными безлично, деянием духа времени.
В ключевом для понимания этой проблематики докладе «Из Ворпсведе “налево” и “направо”. Проблема эволюции, дегенерации и осуществления первоначального художественного импульса» Чечот так описывает свои представления об историзме: «Исторические описания похожи на археологию человеческого сознания, человеческой природы: это не суд совести над ней. Из такой археологии невозможно извлечь никаких уроков, человек и история не могут стать над самими собой, проведя разбирательство и начав все заново, с нуля. Человек вынужден стоять перед самим собой как перед загадкой, нести себя как бремя. …Интерес к истории <…> — это интерес к отражению в зеркале, сопряженный с дискомфортом узнавания/неузнавания, а также страсть к постижению в себе иного. <…> Художественное <…> не может быть заперто и в абстракции личностного — будь оно таковым, его пришлось бы считать бессодержательным вследствие изолированности, неопределенности и многозначности всего личного. <…> Хотим мы того или нет, любая интерпретация искусства есть его неправомерное использование. …В строгом смысле о произведениях искусства следовало бы молчать» (с. 448—449).
Любопытно, что в опубликованный текст этого доклада не вошло столь же отчаянно конкретное определение искусства, произнесенное И.Д. в заключительной фразе и убеждающее нас в том, что молчать об искусстве невозможно: «Искусство — показ исторической судьбы, универсальная функция, а не функция индивидуального или общественного сознания/подсознательного. Без этого показа мы не знаем мира». Понятно, что движение к коллективным и процессуальным формам искусства от личных и станковых покамест не справилось с устранением автора (ведь и «гомеровский вопрос» не уничтожил мифическую личность Гомера), и, читая в книге И.Д. об искусстве, раздумывая об истине, за которую, по мнению И.Д., нас всех и спасают, я все время вспоминаю еще одно место про личность — Герцена из предисловия к «Былому и думам»: «История последних годов моей жизни представлялась мне яснее и яснее, и я с ужасом видел, что ни один человек, кроме меня, не знает ее и что с моей смертью умрет и истина».
Когда мы учились в университете, И.Д., несмотря на свою молодость — ему было 27 лет, а может, и благодаря ей стал именно тем человеком, который один знал истины. Тогдашний круг общения И.Д. составляли С.М. Даниэль и М.М. Алленов, и было очень интересно сравнивать их великолепные выступления: Даниэль находил в картинах сложные композиционные схемы, Алленов — скрытые символы, а Чечот просто вместе с аудиторией рассматривал живопись линию за линией, завитушку за завитушкой, цвет за цветом; хотя и занимался «Основными понятиями», применял их крайне редко, предпочитая вначале перечислить взглядом все, что есть в мире картины и чего, значит, нет в другом каком-то мире.
И.Д. Чечот. От Бекмана до Брекера. Статьи и фрагменты. — СПб.: Сеанс, 2016. 626 с.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда
12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея
11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»
2 марта 2022
18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам
Все новости В разлуке
В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен
28 ноября 202476529 В разлуке
В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым
22 ноября 202473923 В разлуке
В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах
14 октября 202475679 В разлуке
В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается
20 августа 202479770 В разлуке
В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»
9 августа 202479632 В разлуке
В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь
15 июля 202481387 В разлуке
В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым
6 июля 202482223 В разлуке
В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности
18 июня 202488550 В разлуке
В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова
7 июня 202486992 В разлуке
В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»
21 мая 202469719 Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials