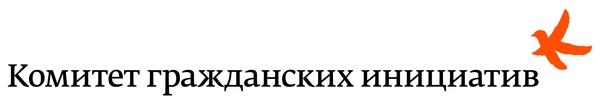Леонид Парфенов: «Как я сейчас делаю теледокфильмы»
Расшифровка мастер-класса в Школе гражданской журналистики
 © Colta.ru
© Colta.ruМастер-класс Леонида Парфенова в Школе гражданской журналистики состоялся 3 апреля после коллективного просмотра документального телевизионного фильма Парфенова «Цвет нации».
— Я не умею преподавать, никогда этого не делал. Поэтому чем мы скорее перейдем к диалогу, тем лучше.
Этот фильм, «Цвет нации» (о фотографе Сергее Прокудине-Горском. — Ред.), — последний по времени, суеверные киношники говорят в таких случаях «крайний», чтобы, не дай бог, что-то последним не оказалось. Он был показан по Первому каналу в День России, но никто ничего не смотрит, так что это смело можно показывать в любых залах.
К сожалению, Дмитрий Николаевич Свечин (внук Прокудина-Горского. — Ред.) за это время скончался, больше нет ни одного здравствующего человека, который был бы снят Прокудиным-Горским. Я не накручиваю себя, это, по-моему, естественная реакция, просто не верится — неужели все уже умерли, неужели никого? Нет, никого... Он был замечательный наследник. Он в течение 10 минут отвечал на любые мейлы и присылал сканы недостающих фотографий. Ему было 94, и он продолжал водить машину, за год только за этого перестал водить скутер. И он выражался тем исключительным русским языком, который слышен здесь, который был слышен даже в мейлах. И особенно странно, когда на экране видишь написанное и слышишь этот звук! «Мой друг Леонид, дни бегут, и мы должны поскорее назначить дату нашей встречи...» Вот. Увы...
— Сколько времени заняла съемка?
— Вы знаете, я никогда не занимаюсь одним проектом, и мне сложно посчитать. Была огромная пауза. Мы сняли осенью 2012-го Свечиных, потому что я очень беспокоился — все-таки и тогда уже было 92 Дмитрию Николаевичу, да и 30-го года Иван Николаевич (Свечин, еще один внук Прокудина-Горского. — Ред.)... А потом у нас был огромный перерыв, потому что зимой было снимать нечего. А потом очень быстро снимали апрель, май, июнь и сняли, в общем, все. А потом довольно долго монтировали.
Естественно, были придуманы замещения, фоны. Потому что для того, чтобы фотография жила… Не то что я так себя люблю... ну, люблю, конечно… Но ее нужно согреть внутренне, там должно быть какое-то движение, какие-то взаимоотношения между нами сегодняшними и тем снимком. Потому что красная цена хронометража — пять секунд, ну семь — вы ничего не сумеете разглядеть. Вот семья на покосе, над Шексной... Это просто не вяжется с экраном. Вы привыкли на нем к динамике. И нам нужен был такой вот песочек, чтобы такой уклончик шел — и я по этому песочку... Песок, и трава, и вода, они-то неизменны. На чем все и строится, что из XXI века можно перейти на сто лет раньше. И нам нигде не попадался песочек. Я уже плюнул, думаю, ладно, купим полсамосвала песку, это недорого стоит в масштабах бюджета фильма, насыплем в нужном месте и снимем. Но на турбазе, где мы жили, снимая Кивач, вдруг нашелся такой откосик. В общем, ерунда, но из такой ерунды все и состоит. Поэтому, в принципе, получается делать один фильм в год-полтора.
— Как вы разводили свои обязанности с режиссером Сергеем Нурмамедом?
— А я никогда режиссером не был, и мне незачем их разводить, свои обязанности. Я в жизни своей не поставил ни одного кадра, не сделал ни одной склейки. Понимаете, это все-таки журналистское кино, которое, наверное, киношники там между собой называют «передачами». Ну и пусть, не обидно. Хоть горшком назови...
Как правило, ситуация такая: я прихожу в группу и рассказываю им что-то, о чем они не знают, и сначала это называется «протанцевать все в лицах»: вот представь, ты тут идешь, и вот здесь вот... Подумаем, может, укрупнения... То есть ты все равно приходишь не с режиссерским решением, но с какими-то глобальными идеями, про что это вообще будет. Мне в «Цвете нации» понятно было, что важно это высказывание, что мы не та Россия, которая была. Терминологически они совпадают, но между ними огромный период, который невозможно преодолеть человеческой жизнью. Люди, которым было 20 лет в 1991 году, когда кончилась советская власть, не могли застать никого, кому было 20 тогда, когда закончилась царская, ну, чтобы хоть как-то они срослись, хоть какая-то человеческая эстафета была.
Поэтому надо сразу понимать, куда мы гоним мячик, не вообще какие-то финты, а целеполагание. А иначе — по какому ты принципу отбираешь, чего тебе надо, чего не надо, что лишнее, чего недостаточно.
Поэтому моя работа — идеологическая. Я эти эпизоды приношу, но их экранное решение от меня совсем не зависит. Они, конечно, меня уже давно втемную используют, я уже просто артист в кадре. То есть текст, слава богу, написал, вообще это все придумал, но дальнейшее... «Так, теперь давай на среднем, заходишь, вот так тут посмотрел, но не сразу, оценил — и через секунду вышел, нет, правее пойди…» Я уже не понимаю, из чего они исходят. Они-то это все пространственно прикинули, что выходить нужно сюда, хотя туда мне вроде бы ближе, проще.
Поэтому глобальная задача от меня приходит, но они ее оплодотворяют. И это, может быть, самое большое счастье в этом ремесле, в этой технологии, когда тобой принесенная идея уже перестала быть твоей, стала общей. И ты горд, что принесенный тобой эпизод оказался даже богаче твоих собственных представлений и дал им возможность еще какую-то дельту добавить. Это прекрасно! И нет ничего лучше, чем после съемочного дня сидеть за трапезой и это все обсуждать.

— А как у вас рождаются темы для проектов, идеи?
— Ну, это моя профессия! Еще бы не хватало, еще бы они у меня не рождались! На хрен бы я был нужен! Понимаете, фильмов про Прокудина-Горского было пять. В том числе один, сделанный ВВС. Но там не было вообще журналистского взгляда. Достаточно сказать, что они не поехали по точкам съемок (Прокудина-Горского. — Ред.), что мне представлялось естественной реакцией медийщика. Это же самое поразительное. Поскольку картинка (на цветных фотографиях у Прокудина-Горского. — Ред.) такая, будто прошлым летом снято зеркалкой... Ну, возьмите вы там фотографии, не знаю, Карла Буллы, им снят Невский проспект просто пошагово. Но оттого, что это ч/б и специфическая глубина кадра, резкости, теней, вам это мешает. Вы не можете взять здание гостиницы «Европа» тогдашнее и это... там все другое! Вся картинка другая, ну и как это сравнивать? Это давно было, оно другое. Как гравюру нельзя сравнивать с Инстаграмом. А Прокудина-Горского с Инстаграмом сравнивать можно, потому что он и эстетически в Инстаграме: зачекиниться в Рыбинске, так, Рыбинск окучили, дальше у нас Углич вниз по Волге. Зачекинились в Угличе, дальше у нас Кострома... Вот же чем и ценно это: что Россия вообще оказалась единственной страной, которая снята в цвете, да еще вполне себе системно, до Первой мировой войны, то есть фактически в XIX веке.
— Насколько детально вы прописываете план перед тем, как начать работать над проектом?
— Все пишется, есть план, и есть потом эпизодник. То есть мы едем в Узбекистан, скажем, и снимаем Бухару и Самарканд, хотя они будут в разных местах стоять, но мы снимаем разом. И в этот момент все написано просто до запятой. Другое дело, что жизнь, конечно, богаче наших планов, и на месте что-то как-то переиначивается. Но это привязка к местности, вопрос техники. Никакого озарения на месте, а тем более на монтаже, быть не может. А потом, за мной люди, которым надо работать, денежки капают, дорогостоящее инвалютное оборудование, как раньше говорили. Солнце уходит, а я сейчас буду говорить: «Что-то я здесь не вижу драматургии...» (смеются). Нет-нет, я абсолютно этими химерами не страдаю.
— Вы констатируете факты, ситуации. А вы не хотели бы сделать совсем другой проект, от себя?
— Нет, вы знаете, я журналист, я могу только с фактами работать. Я ничего не могу выдумывать, мне это кажется страшным произволом. Кроме того, я давно убедился, что документалистика богаче всех наших фантазий. Просто нужно дойти до правильной точки, и действительность превзойдет самые смелые ожидания.
— У вас все советское влияние на здания и объекты, снятые Прокудиным-Горским, сопровождается таким очень страшным, загробным звуком — это ваша идея?
— Нет, режиссера Сергея Нурмамеда. Но я не думаю, что это загробный звук. Это было отчасти мое, потому что мне казалось, что всегда вот в такой глухой дыре (я в такой вырос) особый символ скуки — это то, что где-то кто-то мучительно настраивает радио. Это сейчас чуть крутанул колесико — и шесть ФМ-станций новых возникло. А вот раньше: «Вы слушаете “Маяк”. 11 часов 3 минуты. Мелодии советской оперетты. Трио из оперетты “Белая акация”»... Мне кажется, это адекватно в фильме.
— Почему в фильме очень мало, практически нет героев?
— Ну а какой там герой?
— Нет людей, которые живут в этих деревнях, если они там живут.
— А мне они зачем здесь?
— Они вам неинтересны были?
— Нет, вопрос не в этом. Послушайте, как они живут в этой деревне Крохино (рядом с затопленным и развалившимся храмом Рождества Христова. — Ред.), отношением к этому храму они и так все рассказали. Что, я к ним пойду спрашивать? Ходить по хаткам и говорить: «Что же тут у вас распадается столько лет, а что же вы... Давайте на субботник выйдем...» Ну нет. В других фильмах сплошные герои! Сейчас давайте покажем фрагмент из фильма под названием «Зворыкин Муромец». Вот он весь посвящен одному герою (Владимиру Зворыкину, изобретателю телевизионных технологий, уроженцу Мурома. — Ред.). Это был первый опыт в Европе большой докудрамы. То есть это документальное кино, внутри которого ключевые эпизоды проигрываются, как в игровом. Потому что до этого (а это фильм 2010 года) казалось страшным риском, если в докудраме ты вдруг введешь актера — и все разрушится. Это была важная задача, тогда решавшаяся первый раз.
Фрагмент фильма «Зворыкин Муромец»
Ну вот, значит, здесь была задача такая. Про Зворыкина это тоже был фильм типа пятый, но никто не делал докудраму. А мы как-то так дело раскрутили, что на волне этого фильма даже поставили два памятника — один в Москве, другой в Муроме. В Москве — у Останкинского пруда, на средства Первого канала, а в Муроме владимирский губернатор и мэр города собирали бизнес, ставили ему две серии фильма, потом говорили: «Видите, как Москва потратилась на нашего. А ну-ка вы потратьтесь!»
— У вас всегда в фильмах музыка такая душевная, тонкая, ностальгирующая?
— Ну, это вопрос к Сергею Нурмамеду в большей степени. Кроме того, в «Зворыкине» такая музыка, довольно типичная для американских байопиков. Мы ведь исходим из понимания того, к чему привык зритель, какова сегодняшняя традиция биографического фильма. Поэтому весь этот размах, декорации, этот синий цвет, белые шкафы, как в доме Зворыкина в Принстоне…. И отсюда этот звук. Ну вот такая попытка погрузить в тот бульон, в котором привычно воспринимать биографию человека, о котором абсолютное большинство, конечно, до последней секунды не знало ни слова, ни полслова.
— В современной российской документалистике вы на кого-то ориентируетесь, кого-то выделяете для себя?
— Вы знаете, я ничего не смотрю, честно говоря. Вообще мне представляется, что жанр этот в загоне, поскольку никакого спроса на него не существует. Вот эти все фильмы — они там за последние годы, как правило, представляли Россию на всяких международных фестивалях. Что касается «Цвета нации», то я его показывал от Красноярска до Лондона, и я твердо знаю, что, куда ни придешь, все равно никто ничего не видел. Ну найдется один-два человека, но, как правило, это все с нуля. Раньше показ такого блокбастера про русского, который изобрел телевидение, — со всей мощью промоушена Первого канала!.. Когда на следующий день на работе все это обсуждали, потому что все смотрят одно и все живут более-менее ноздря в ноздрю. Сейчас никакой документальный фильм не может оказаться явлением, о котором спорят. Не то что там он изменит мир, а который просто критическая масса людей бы посмотрела.
— А зачем тогда вы это снимаете?
— Но есть еще такая глупая подробность — до сих пор доживающие люди со старой профессией! Ну что теперь делать? Есть такая ужасная штука, надо потерпеть. Кто-то не снимает, ну вот мне везет — я могу деньги собрать. Но это давно уже является моим личным делом чести, доблести и геройства.
— Какой вы представляете себе аудиторию, для которой вы снимаете?
— Ну, в идеальном случае я снимаю, как это раньше говорили, для пионэров и пенсионэров. Для всех снимаю! Но это относится к любому медийному продукту. Пытаешься делать так, чтобы это, с одной стороны, было кому-то интересно как тема, кому-то как стилистика. Потому что даже если ты делаешь про фотографа, который жил сто лет назад, ты должен делать сегодняшнюю вещь. В этом смысле ориентируешься на представления, что сейчас носят. А дальше как повезет, по-всякому бывает. Ну вот во времена, когда все смотрели всё, был у нас такой проект «Старые песни о главном». И там было понятно, что вышеупомянутые пенсионэры смотрят это потому, что там «крепче за баранку держись, шофер», а пионэры смотрят потому, что поет это Агутин. И вот так вот стараемся держать. Когда-то такие вещи попадали в резонанс большинства. Сейчас нет ничего, что попадало бы в резонанс большинства, по моему глубокому убеждению.
— Скажите, а желание еще осталось вернуться в еженедельный эфир?
— Вы знаете, вообще журналистика и в особенности телевидение — это очень технологичный, конкретный процесс. Нельзя вообще снять фильм, нельзя вообще вернуться в эфир. Это вопрос условий, возможностей. Сейчас я их не вижу... Если они возникнут, то тогда я загляну внутрь себя... Судя по тому, что они там вещают, я не очень представляю, что я там буду делать.
— Когда вы набираете команду, с которой будете работать, на что вы обращаете внимание?
— Она уже давно набрана. Как-то все сами прибились мы друг к дружке, и все. Но бывает, что особенно режиссеры перерастают и, например, из документалистики уходят в игровое кино. Вот такой Антон Мегердичев, с которым я много работал, он теперь режиссер «Боя с тенью-2» и блокбастера «Метро». Бывают случаи, когда люди сходят с дистанции, потому что надоедает. Какого хрена я должен330 километровот Вологды, которая и сама-то не ближний свет, еще переться в эту Вытегру? Но, в принципе, держится все на каком-то единомышленничестве. Поэтому ругаться нам сложно. Мы очень зависимы друг от друга.
Давайте посмотрим отрывок из произведения под названием «Глаз Божий». Это было к столетию Пушкинского музея. Вот это фрагмент, показывающий, что такое, когда идет документальное повествование, а потом как бы двоеточие — и теперь ключевой эпизод мы проживем с эффектом реального времени, как в игровом кино: он вошел, сказал, кашлянул… Мы дошли до 28 ролей, а это в игровом-то кино нечасто бывает. Олег Табаков — Иван Цветаев, Евгений Миронов — Николай Второй, Владимир Этуш — Марк Шагал, Игорь Кваша — Илья Эренбург, Пикассо до Первой мировой войны — Петр Налич, Пикассо после Второй мировой войны — Владимир Познер.
Кино про музей — это все, это просто муха на лету упала. Конечно, должна быть какая-то сверхзадача, должно быть про что-то. И это про русское западничество, про русских европейцев, как сто лет назад Щукин и Морозов собрали самое новое искусство, а Цветаев — самое старое. А потом это все время запрещали, в том числе сталинским указом 1948 года, как антинародное искусство, тлетворное, эпохи империализма. Но потом оно опять пробивало себе дорогу, и вот новые поколения европейцев опоясывали очередями ограду Пушкинского музея.
Фрагмент фильма «Глаз Божий»
Вот здесь была такая совсем разлюлималинная, байопиковская история, огромное количество сюжетных линий, 28 ролей. И после этого мы решили, что исчерпали, больше мы этим приемом пользоваться не будем. И в «Цвете нации» мы очень деликатно сделали фейковую хронику, как царская семья смотрит цветные фотографии. При этом они там среди всего этого черно-белого мира в дореволюционной России загораются цветом. Разумеется, и Прокудина-Горского нет в кинохронике, это все наше там.
— Какие фильмы вы считаете пошлыми?
— Ну, это зависит от конкретного случая. Не бывает ничего изначально пошлого. Пошлый ли мат? Пошлый ли русский шансон? Вилкой можно заколоть, можно зарезать, глаз выбить, не знаю, а можно телятину поесть. Это же зависит не от тематики.
— Если бы у вас была возможность, на какую-то острую политическую тематику вы могли бы снять фильм?
— Но вы опять предлагаете рассмотреть теоретически. Вот есть общественная дискуссия, и тогда есть вопрос, как в этой общественной дискуссии вы бы высказались средствами теледокументалистики… Может быть, они дискутируют не о том, а я хочу встрять совершенно с перпендикуляра. Нужно сначала понимать, где этот общественный интерес, и тогда попытаться на него ответить. Но когда его нет…
— На прошлой неделе на вашем месте стоял Андрей Лошак и говорил о своем фильме «Путешествие из Петербурга в Москву», который он снял за 12 дней с небольшим бюджетом. Для вас принципиален большой бюджет?
— Это зависит от задачи. Никто ведь не говорит: дайте мне бабла, а то работать не буду. В условиях такой огромной, пышной истории за сто лет, со Щукиным, Морозовым, Цветаевым, со всеми делами, это дешево просто не сделаешь. Вот мы сидели с Ириной Александровной (Антоновой. — Ред.) и просто составляли по пунктам, чего не упустить, что важно.
Будь у меня задача снимать «Путешествие из Петербурга в Москву», а я видел эту работу Андрея... Но она решена, скорее, как серия репортажей. Я не скажу, что это фильм. Это вообще зыбкое понятие — что уже считать фильмом, а что еще считать «гранд-репортажем». Мне кажется, что все-таки это «гранд-репортаж». Да, это можно сделать и так. Лично мне этот жанр не очень близок. По крайней мере, сейчас. Когда-то я сам этого снимал воз и маленькую тележку, но сейчас мне это как-то не очень.
— Сугубо практический вопрос. Как мониторить, что сейчас модно по картинке, что в тренде?
— Ну, смотришь, все время смотришь игровые фильмы, рекламу, как это делается. Какой-нибудь «Отель “Гранд Будапешт”», сколько там по эстетике вот этой статуарности... Когда нет уже мельтешни, беготни, а когда вот эта нарочитая инстаграмщина. Само качество съемки, тип монтажа и время.
Потому что главное — это разлитое в современности, в восприятии чувство ритма, чувство стиля, интонации, дыхания, которое ты чувствуешь или не чувствуешь, но оно рождается из суммы впечатлений. Есть, конечно, случаи, когда человек прямо вот свистнул этот прием, отсюда и взял, но мы так стараемся не делать.
— У меня вопрос совсем не по последним фильмам, а по фильму о газете «Коммерсантъ» («С твердым знаком на конце». — Ред.). Мне казалось, что каждая фраза в фильме как будто самая ударная. Потом Андрей Васильев говорил, что вы его мучили много часов. Сколько часов вы берете интервью?
— Там же видно! Это не виски: на самом деле то, что стоит перед ним, — это Ice Tea. И этот один стакан не допит до конца. Ну сколько можно пить один Ice Tea? Отказываюсь представить, что это было более 45 минут, это просто невозможно. Ну, это он считает, наверное, что его там мучили, измучили. Слушайте, весь этот фильм — это панегирик ему прежде всего. Он и тогда был, да и сейчас остался носителем кода, что значит быть газетой верхних 100 тысяч. Как угодно называйте — русской «Нью-Йорк таймс», русской «Ле Монд», русской «Таймс», «Дейли телеграф» и так далее. У нас на все про все он один, да и то почти весь вышел.
И потом, это моя любимая газета! Я с этим прожил, я как буржуа, которому надо утром открывать «Ле Монд»… Собственно, я там прямо про себя, от первого лица говорю, что вот кофе, круассан (теперь я их не ем), масло, джем — и развернуть с хрустом газету. Потому что мне важна верстка, какой величины — на три колонки, на четыре колонки — первополосная фотография, как вынос с первой на третью пошел, как это все корреспондирует друг с другом. И Лидия Маслова с Татьяной Кузнецовой на десерт. Как вот «Литературную газету» в отрочестве читали, чтобы с первой страницы, ничего не пропуская, ни слова. «Клуб “12 стульев”» на 16-й странице от тебя не уйдет, сначала — литературоведение, давай, мил человек, рецензию на повесть «Прощание с Матерой» одолей, и тогда тебе в награду будет… эпиграмма Александра Иванова на Георгия Маркова: «Кто “Соль земли” не одолеет…» Это был первый секретарь Союза писателей СССР, который писал романы, один из них назывался «Соль земли», другой «Сибирь», третий — «Грядущему веку». Я хорошо помню (эпиграмму. — Ред.) в «Литературной газете»: «Кто “Соль земли” не одолеет, того, конечно, ждет “Сибирь”…»
Мы везде стараемся продумывать, разумеется, заранее. Но импровизация должна быть… Я сначала даже был на рекогносцировке (в Париже для съемок фильма «Глаз Божий». — Ред.), что нечасто бывает. И без съемочной группы мучился, что мне с этим делать, как мне передать вот этот коллекционерский подвиг особого русского глаза. И тогда придумался этот фонтанчик (уличный фонтан с питьевой водой — пример утилитарного и понятного обывателю артефакта. — Ред.). Ну вот фонтан стоит, и понятно — это купеческий вкус действительно, чугун, зеленый, тетки красивые. Все по-людски сделано. И без этого я не знаю, как бы я это объяснил. Я был совершенно этим измучен, потому что я страшно боялся, что будет просто хождение бесконечно по Парижу с голословными декларациями по поводу того, что никто тогда не видел, а теперь все видят.
— В интервью на «Дожде» вы как-то сказали, что журналистика не нужна обществу, которое спокойно верит историям про распятого мальчика. Сейчас в зале сидят 20 человек из Школы гражданской журналистики, которые действительно хотят быть честными журналистами. И, возможно, мы понимаем, что это немного безумная идея, но у меня вопрос: это общество, по вашему мнению, можно исправить? И что нам как журналистам нужно делать?
— Общество должно само исправиться. Это нельзя исправить. Вы не можете прийти и сказать: «Слесарь, ты должен быть духовным! Придя со смены, будешь читать Стендаля». Этой дурью маялась советская журналистика. Ничего и никого журналистика не исправляет. Вообще всю эту химеру про миссию надо забыть. Мне почему-то про это приходится довольно часто говорить, и не то чтобы я часто выступаю, но всякое выступление опять сводится к этому же.
Может, кто видел, это было на «Медузе» в связи с 30-летием гласности... Я там объяснял, что когда возникла гласность, было понятно, что советский проект обанкротился, мы что-то наделали не то — и нужно наконец понять и что-то об этом сказать…
И все искали ответы на эти проклятые вопросы. Почему, если мы — общество самое передовое, у нас теперь уже и стирального порошка даже нет, в космический-то век? И тогда это было востребовано. Тогда был побит этот рекорд — 34 миллиона экземпляров «Аргументов и фактов», которые просто отвечали на злободневные вопросы достаточно доходчиво. Представляете, мы — страна с убывающим населением, а «Аргументы и факты» имели тираж больше, чем «Жэньминь жибао», орган ЦК КПК, где, я думаю, у коммунистов более-менее обязательная подписка на тамошнюю газету «Правда».
И это или есть, или этого нет. А хватать за грудки и говорить: «Вы европейцы! Дети белой христианской цивилизации! Как вы смеете? В Англии четыре качественные газеты, а у нас полторы!» Да какие полторы! По-моему, половина. «Как вы можете верить историям? Как может быть, что за все это время не нашлось второго свидетеля о распинании на площади? Что же вы такие лохи-то? Задайтесь хоть каким-то вопросом!» Бессмысленно. Или люди сами задают себе этот вопрос... Как это было у Галича про развенчание Сталина: «Кум откушал огурец и промолвил с мукою: “Оказался наш отец не отцом, а сукою”…» Пока похмелье не наступает, понимаете, бессмысленно… Десятиклассники орут на выпускном: «Гуляй, Россия! И плачь, Европа! А у меня красивая *опа». Бессмысленно говорить: «Ты проспишься, тебе будет плохо, дурачок». Он же знает, что еще по сто — и завтра в школу не пойдем.
— С другой стороны, государство трясет за грудки и действует.
— Тогдашнее государство, предгорбачевское, уж как оно держало за грудки — мышь не проскочит! Тогда было последовательно. Тогда если была программа «Время», то Newsweek в спецхране. А сейчас есть доступ к информации любой, но никто ее не ищет — вот же вопрос. Но к тому времени, когда уже действительно эта гиря дошла до пола, государственная пропаганда давно работала против себя, и всякое появление Леонида Ильича, я уже не говорю о Константине Устиновиче Черненко, ничего, кроме… А тут этот бодрый Рейган, тоже 11-го года рождения, как и Черненко, который сообщает про империю зла. Это была совсем другая повестка дня, абсолютно.
— Интересно, если сейчас на приличную журналистику в обществе запроса нет, а хочется быть журналистом, притом честным и объективным, как вы считаете, где журналисту черпать силы?
— Вы спрашиваете меня, 11 лет назад уволенного… (Смеются.) Я последние восемь лет уже вообще нигде не работаю. И все эти фильмы и книжки я фигачу…
— Но вы все-таки бренд, а вот новичку что делать? (Смеются.)
— Не знаю. Слушайте, вот я иногда думаю: какая же это патология была — в 1977 году поступить на журфак… И был секретарь комитета комсомола Бастрыкин, который что-то там объяснял про то, как комсомольцы и молодежь восприняли как руководящее напутствие жизнь и работу Леонида Ильича Брежнева. Была секретарь обкома комсомола Валентина Ивановна Матвиенко, которая на летучках в газете «Смена», возглавляемой Геннадием Селезневым, говорила: «В хорошую сторону отмечаем мы заметки Леонида». И я помню тогдашнюю журналистскую этику, когда спокойно говорили: «Вот будешь сейчас как миленький писать про партию и правительство! А потом, когда ты станешь старым и лысым, тебе, как Пескову, позволят писать…» Это Василий Песков, был такой обозреватель в «Комсомольской правде», недавно скончался, у него была рубрика «Окно в природу». Вот когда будешь старым и лысым, тебе позволят писать про медвежат. А он сначала тоже написал книжку «Шаги по России» про Гагарина, за которую получил Ленинскую премию, и тогда ушел только в тему: «Вернувшись из тайги, геологи принесли маленького рысенка». Он отбился, его там накормили, напоили, и зашибись, отлично. Герои не имеют никаких претензий к журналисту. Поэтому я не знаю, у меня нет ответа.
— Хороший ответ.
— Ну, ребят, слушайте, ей-богу, на дворе 25 лет уже рыночная экономика. Производиться должен товар, на который есть спрос. Не слышали об этой довольно старой теории? Я вот немножко еще ресторатор. Я уже приводил этот пример: вот в меню у тебя, может быть, анчоусы, и ты убежден, как это прекрасно, какой-нибудь там салат «Нисуаз», но в зале тебе говорят: «Знаете, молодой человек, вот помидорки, огурчики, а главное — сметанки побольше…» И чего? Можно снять фартук, бросить и сказать: «Так, все! Я этого больше не кормлю!» Ну о'кей. Не знаю, что тут можно сказать. Вот отечественный автопром как-то же существует (смеются).
Так, давайте еще один фрагментик посмотрим. Это будут фрагменты из «Птицы-Гоголя», 2009 года изделие, соответственно к 200-летию Гоголя. Это как раз тот случай, когда нужно сделать что-то такое современнообразное. Там Олег Павлович Табаков, который у меня не раз появлялся в проектах вообще, и Земфира Талгатовна Рамазанова, видные деятели отечественной сцены, также задействованы для всякого осовременивания. И довольно много мы там делали компьютерной графики, она вообще впервые была тогда на службе у русской классики. Обратите внимание на профиль, который будет вначале, это отбивка, шедшая сквозь весь фильм. Это силуэт Гоголя работы Юрия Анненкова. Потому что Гоголь все-таки передается носом, чуть-чуть усиками и…
— Прической.
— Это сложнее все-таки, чем прическа. Этому будет посвящен отдельный эпизод.
Фрагмент фильма «Птица-Гоголь»
Значит, есть повесть Гоголя «Рим», которая ничем особо не примечательна, она не закончена, считается отрывком. И там главным героем является архитектура. И, как всегда у Гоголя, есть эти фантастические восклицания, не относящиеся… ну, иногда относящиеся к делу… Но вот по части фантасмагории, конечно, ему равных не было. Например (в «Старосветских помещиках». — Ред.), двери все скрипят на свои голоса, и дверь, которая вела, по-моему, в столовую или в гостиную, скрипела: «Батюшки, я зябну». Кто это еще мог услышать? И в «Риме» у него есть чудесное восклицание: «Когда и как успели они все это понастроить?!» Рим действительно производит такое впечатление: здесь античность, на ней какой-то средневековый кусок, здесь вылезает Возрождение, а тут какая-то коммерческая доходная застройка какого-нибудь 1880 года, после объединения Италии. И все это каким-то образом так живет.
И это попытка объяснения, чего он в Риме писал «Мертвые души», да еще и «Шинель» тоже, вообще в Риме писать про холод.... И отсюда возвышенность слога пошла: «Строгой стрелой гоголевского пробора…» (речь идет об эпизоде из фильма, где римский ландшафт превращается в графический профиль Гоголя. — Ред.).
— Расскажите про визуальные фишки. В «Птице-Гоголе» их очень много, моя любимая — с катающимся портретом Пушкина. Вот эти графические трюки как возникают? Ваша роль в возникновении их, создании?
— Ну, вот это я придумал. «Строгой стрелой гоголевского пробора». И более того, я еще пытался настоять на том, чтобы мы все-таки колонну превращали в нос буквально, но это не получалось. Да, вот 5:30 утра, в 6 начинают возить как раз круассаны в гостиницы, в 5:30 уже рассвело, но не началось еще броуновское движение. Поэтому затемно, с четырех, все отрепетировать и потом поскакать по этой улице Барберини, для того чтобы меньше затирать машины… Это был изумительный рабочий день, который в 7 утра уже закончился, ну просто потому, что нельзя было снимать. Эти фишки были с самого начала придуманы. Потому что Гоголю это подходит… Из этого ты и идешь, это природа его такая. «Искусство всякого пропагандиста и агитатора в том и состоит, чтобы сделать некоторую истину более интересной и более понятной массам». В.И. Ленин (измененная цитата из статьи Ленина «О пропаганде и агитации». — Ред.).
— Существует мнение, что журналисту лучше получить какое-то профильное образование, историческое, политологическое или экономическое, и потом уже на эту тему писать, а чисто техническим навыкам можно легко научиться. Или лучше получить базовое журналистское образование и писать один день про колбасу, другой день про детей? Как вам кажется, что наиболее эффективно?
— Ну, как показывает практика, для того чтобы быть журналистом, не обязательно заканчивать журфак. В принципе, он не противопоказан, полно журналистов, которые журфак заканчивали, но ничем они не отличаются от огромного количества народу, который нет. Теории журналистики не существует, я глубоко убежден. То есть как науку изучать там нечего!
Я тоже склонен полагать, что лучше все-таки иметь фундаментальное образование, ибо журфак я не считаю образованием. С общегуманитарного взгляда понятно: это все химеры! Репортаж с элементами интервью — чем он, как жанр советской газеты, отличается от… еще какой-то там пурги? И этим мы пять лет маялись. Уж на что я был скромный малый в школьной форме с двумя рубашками, даже чемодана не было, и то я понял сразу, что это фигня собачья! Что ходить на журфак каждый день вообще смысла никакого не было, было видно даже такому олуху, испуганному и страшно гордому, что он, в принципе, в ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени Ленинградский государственный университет имени Жданова поступил. Было видно по этим преподавателям, что они в жизни своей не написали заметки на четыре строчки про сбор макулатуры!
— У меня вопрос про финансирование по модели краудфандинга. На Западе на фильмы даже про какой-то отдельный шрифт или про урбанизацию собирают большие суммы. В России какие вы видите перспективы у этой модели?
— Никаких. Как известно, в России в целом благотворительность, отрывание денег от себя на какие-то социальные, общественные цели в разы меньше, чем в Голландии. Кроме того, то, что мы говорили про запрос общественный. Если общество рвалось бы: расскажите нам методом докудрамы о… Ну, вы выйдите, пройдите тут по Чистым, спросите: есть какой-то медийный продукт, которого людям страшно не хватает и они готовы даже пожертвовать кровным, потому что все хотят про это узнать? Нет, понятно, какие-то небольшие ниши есть. Спросили же про фильм. Нет, фильм я не могу себе представить. Хотя есть случаи, когда кто-то на что-то собирал, но они не впечатляющие. Понятно, что никакой технологии не существует, потому что нет электрических разрядов в воздухе: хотим, хотим, хотим, хотим…
— А может ли краудфандинг быть заточенным под определенную группу лиц? Скажем так, насколько я знаю, Валдис Пельш собирается снять фильм о Главном здании МГУ, в котором он учился, и соответственно он обратился с предложением сброситься деньгами к тем людям, которые связаны непосредственно с университетом.
— Ну, это тогда «клуб веселых джентльменов», выпускников Главного здания МГУ. Это понятно, но это другое. Мы же сейчас говорим об общественном запросе. «А давайте мы снимем про то, как тогда мы весело жили» — это понятный мотив, но ты обращаешься к какой-то своей Лиге зеленого плюща. Это все-таки не совсем журналистика, а некий такой памятничек себе. Нам же всем было так клево в этой высотке!
Конечно, локальные истории могут быть, скинуться на что-то — нормальная русская традиция. Опять-таки вы сами очерчиваете узкий круг тех, кто скинулся, у кого можно прозрачно определить круг общих интересов. Это не в целом российское общество или значительная часть российского общества, которое движимо некими проклятыми вопросами современности. И это к журналистике не имеет отношения, это каждый раз какая-то такая полезняшечка для нас самих.
— Скажите, а насколько для журналиста, который снимает авторское кино и работает в кадре, важно владение актерским мастерством или ораторским? Потому что у вас это все прекрасно получается…
— Ну может быть, я не знаю. Есть какие-то задачи, и назвать это актерским мастерством или ораторским нельзя. Ничего я там наиграть не могу. Ну, сутулюсь меньше обычного, ну, говорю яснее, научился не все время привязчиво в камеру смотреть, а вот когда-то в камеру, а когда-то… Мне, кстати, несколько раз говорил Павел Семенович Лунгин… я пытаюсь цензурно сформулировать… что типа ничего ты сыграть-то не можешь, не можешь перевоплотиться, все равно видно, что ты с иронией смотришь на себя со стороны. Отдаться образу… Я против такой терминологии. Нет никакого актерства. Потому что мое дело — донести некую истину, некий смысл про пожарную команду в Вытегре — какое тут актерство? Ну, не колоться в кадре, правильно из кадра выйти, достаточно быть непринужденным. Но когда это твое и ты сам писал под это произнесение, никаких проблем нет. Будь у меня чужой текст, я бы, может быть, с ним и не справился. А тут я — это я. Чем я там особо отличаюсь? Может быть, не так раскардашно одетый, а так-то чем я здесь отличаюсь от тамошнего? Мне кажется, ничем особенно не отличаюсь.
— Дело в том, что вы хорошо общаетесь с публикой.
— Это другая история! Это некие навыки того, как историю попытаться сделать интересной. И тут многое зависит от того, что она изначально интересна тебе. Потому что если ты сам с сухим носом, если она тебе фиолетова, то как ты заразишь какой-то горячностью по поводу Сергея Ивановича Щукина и его гениальной коллекции на 8,5 млрд в нынешних ценах публику, которая удалена, и там экран небольшой, а тут чайник кипит… Здесь такая энергетика должна от этого идти, чтобы заставить слушать! Вот сейчас расскажу такое! Вот этот внутренний настрой, не так, может быть, вульгарно передающийся, но без этого нельзя…
— Чем вы подпитываете свой профессионализм?
— Не знаю… Уши поросячьи сегодня ел с белой фасолью (смеются). И салат из редьки.
— Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, почему, несмотря на обилие агрессивной пропаганды в советское время, у широких масс в конце 80-х сформировался запрос на большие тиражи СМИ? И что должно произойти в настоящее время, чтобы это повторилось?
— Я уже про это говорил. Потому что люди поняли, что все, что было до сих пор, — это вранье и надо задаться вопросом: где мы оказались и почему? И тут заголосили все про всё. От культа личности Сталина до секса все темы были первыми. А сегодня… Люди должны почувствовать проблемность этого времени и поставить перед собой эти вопросы: кто мы такие, куда мы идем, что за духовные скрепы, много ли у нас внутренних врагов, действительно ли Америка такой враг, почему если в Европе так плохо, то живут так хорошо? Если люди обращают внимание, что в Австрии есть бородатая певица, а не обращают внимания, что в Австрии в пять раз больше получают врачи и учителя, это от людей зависит. Я уже не чаю, чтобы при моей жизни случилось, что они догадаются: им специально так подробно рассказывали про бородатую певицу, чтобы они, не дай бог, не спросили про зарплаты в Австрии. У нас ВВП на душу населения ниже, чем в Словении. Есть такая страна со столицей Любляна. Но пойдите расскажите! Мы же великие, мы же Словению со Словакией спутаем…
— Помимо внутреннего интереса, кроме этого горения, практические советы: как сделать историю интересной?
— Нету практического совета. Не может быть никакого лекала, каждая история по-своему делается. Конечно, требуется владение ремеслом. Ты смотришь, не знаю, как закройщик на шкуру, и думаешь, что вот это туда пойдет, а это вот сюда. Здесь не надо Бухару и Самарканд вместе, давай это разнесем, потому что это у нас будет про фиксацию разрушаемого памятника, разрушенного, а это у нас будет про передачу синего цвета и вообще про яркость. И тогда зарифмуем синюю блузу Толстого с синим халатом эмира Бухарского. Ну вот какие-то такие вещи. Но в принципе ты пытаешься идти сюжетной, смысловой линией. Давай начнем с чего-то, что уже более-менее известно, а теперь зададимся вопросом, откуда оно. А вот оно откуда… И так далее.
— Про полезняшечки. По-вашему, журналист — это эгоист или альтруист?
— Ну, всякий человек не может не быть эгоистом, это часть природы человеческой. Но если это интересно тебе и ты работаешь в какой-то корпорации, то это удовлетворение личного интереса за счет бюджета редакции. И это вполне себе почтенный мотив. Есть, конечно, еще такой мотив: вы там не были, а я был, я вам расскажу, хочется поделиться. Вы же не знали! И тут, наверное, какие-то есть и альтруистические мотивы. Я не знаю, это вопросы такие… Раньше глянцевые журналы страсть как любили такие анкеты: вы эгоист или альтруист? И вот, от Ренаты Литвиновой до Федора Павлова-Андреевича, все отвечали на такой вопрос.
— А вы визуал или кинестетик? Просто вы так рассказываете про детали, что хочется их уже потрогать.
— А как иначе достичь тактильного контакта? А как иначе? Детали! Вся жизнь из деталей состоит. Не бывает вообще комнаты, вообще города. И именно когда ты зацепишься, когда ты понимаешь, что 51 картина на 25 квадратных метров (в квартире Щукина. — Ред.)… Щукин же в конце концов, заполнив коллекцией весь дом, вынужден был снимать дом другой. То есть этот использовался как такой представительский, но жить там нормальной человеческой жизнью было нельзя. Вот была знаменитая столовая, которая вся была завешана Матиссом. Да, эти стулья (в фильме «Глаз Божий». — Ред.) принесены в комнату, они там не стояли. Но надо сказать (зрителю. — Ред.): три яруса от стульев и туда, выше. Потому что это сразу задает масштаб. Так голая стенка — ты не можешь понять, тем более что она не поместится в кадр, естественно.
— У вас есть проекты, за которые вам стыдно?
— Ой, не знаю! Давайте это кто-нибудь мне скажет, напишет памфлет.
— Ваши фильмы или вы сами могли бы работать на зарубежную аудиторию, где есть общественный запрос на качественную журналистику?
— Это невозможно, у нас слишком своеобразная аудитория, поэтому наши фильмы там не могут идти. Но вопрос не только в реалиях. Они тоже, конечно, мешают, но самое главное — тип восприятия. Плюс язык. И, конечно, в этом случае нужен человек, который по другим работам известен в этой стране. Даже у Познера не было большой американской карьеры. Это должна быть биография взаимоотношений с аудиторией, насчитывающая десятилетия, прежде чем аудитория будет считать, что это человек, который получит право сказать: «Доброе утро, Америка!»
— Объективная журналистика существует?
— Ну нет, объективного вообще ничего не существует. Объективным является только объектив, и то он все-таки с ракурсом направленным. Объективность рождается из суммы информации, объективность в том смысле, что если даже вы в этот момент заблуждаетесь, то искренне. Вот и все. У вас нет других целей, кроме целей редакционной политики. Вы хотите это рассказать интересно. Это лучше получилось, хуже получилось, вы наврали в чем-то, но вы так думали.
Вот, например, всегда считалось, что Шухов — автор стеклянной крыши Пушкинского музея, потому что он больше всего работал с Нечаевым-Мальцовым, который был стекольным королем России и, собственно, дал основные деньги. И после того, как мы уже сделали фильм, оказалось, что нет, не Шухов. Что было совершенно удивительно. Методика его, но он не имел к этому отношения. Мы говорили, что могила Морозова утрачена, а мне написал человек, который ее разыскал в Карловых Варах, и он действительно умер в Карлсбаде, но по всем документам считалось, что тело вывезли, и потом никак не могли найти, где его похоронили. А выяснилось, что не вывезли. И так далее. То есть я искренне ошибался, но я был движим исключительно желанием рассказать вам интересную историю. Ни партия и правительство, ни канал-вещатель, ни даже Ирина Александровна Антонова ни во что это не вмешивались. Я готов за все ответить, в том числе за все, что там получилось нехорошо. А так что же — золотом на мраморе, раз и навсегда истина? И после тебя уже никто слова не скажет на эту тему, все за собой закрыл? Так не бывает. Нормально. Оправдать вечер у телевизора — прекрасная задача!
Ну все, спасибо! (Аплодисменты.)
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда
12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея
11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»
2 марта 2022
18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам
Все новости
 Мастер-класс Дмитрия Муратова «Журналистика: наблюдает или вмешивается?»
Мастер-класс Дмитрия Муратова «Журналистика: наблюдает или вмешивается?» «Что такое в наше время карьера журналиста?»
«Что такое в наше время карьера журналиста?» Мастер-класс Алексея Венедиктова
Мастер-класс Алексея Венедиктова Литературный критик: трудно быть гадом
Литературный критик: трудно быть гадом «Куда мы катимся: журналистика между “Сегодня” и “Завтра”»
«Куда мы катимся: журналистика между “Сегодня” и “Завтра”» Мастер-класс Эдди Оппа «Что должен знать фотожурналист?»
Мастер-класс Эдди Оппа «Что должен знать фотожурналист?» Мастер-класс Натальи Синдеевой
Мастер-класс Натальи Синдеевой Мастер-класс Олега Кашина
Мастер-класс Олега Кашина Мастер-класс «Как писать про Россию для западных СМИ?»
Мастер-класс «Как писать про Россию для западных СМИ?» Мастер-класс Галины Тимченко
Мастер-класс Галины Тимченко Роман Баданин: «Журналист и его источники»
Роман Баданин: «Журналист и его источники» Мастер-класс Анны Наринской «Литературный критик: трудно быть гадом»
Мастер-класс Анны Наринской «Литературный критик: трудно быть гадом»