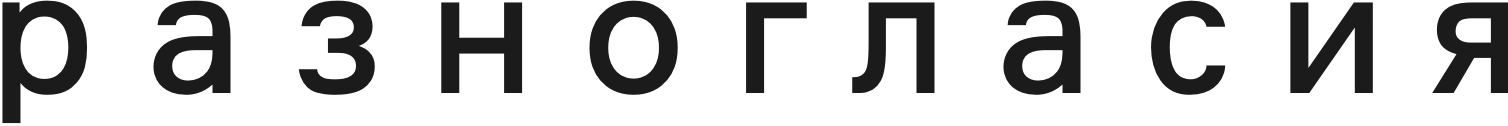«Пусть расширяются, пусть растут, пусть открываются!»
На критические вопросы о работе фонда V-A-C отвечают Тереза Мавика и Катерина Чучалина
 Леонид Михельсон и архитектор Ренцо Пьяно презентуют проект реконструкции ГЭС-2 мэру Москвы Сергею Собянину
Леонид Михельсон и архитектор Ренцо Пьяно презентуют проект реконструкции ГЭС-2 мэру Москвы Сергею СобянинуВ сегодняшней российской ситуации — при слабости как художественного рынка, так и государственной поддержки современного искусства — одним из важных источников денег для «актуальной культуры» служат фонды, организованные крупными бизнесменами и олигархами.
«Виктория — искусство быть современным» (V-A-C) — фонд, основанный в 2009 году председателем правления ОАО «Новатэк» Леонидом Михельсоном. В 2016 году Леонид Михельсон занял первое место в списке богатейших россиян по версии Forbes.
«Разногласия» составили список вопросов к фонду, переживающему сейчас активное расширение и перестройку. По мотивам этих вопросов состоялась беседа, на которой присутствовали главный редактор «Разногласий» Глеб Напреенко, директор фонда Тереза Мавика, программный директор фонда Катерина Чучалина, а также Виктория Михельсон и Грета Мавика.
Тереза Мавика: Начинай, Вышинский.
Глеб Напреенко: Я не Вышинский. За мной нет Сталина, и я вас не могу расстрелять. Я критик. Когда я критиковал Третьяковку или Музей ГУЛАГа, я говорил за них то, о чем они сами не скажут. С вами я делаю ставку на то, что вы готовы говорить.
Мавика: В таком случае спасибо, что приехал! Но, дорогой мой, когда ты, видимо, еще не родился, а твой Франко «Бифо» Берарди уже сдулся и мы все получили по голове за то, что верили во что-то, верили в политику, я уже тогда все это прошла и повзрослела. Поэтому меня не расстреляли тогда, и я не боюсь, что расстреляют сейчас. Тем более не боюсь, что расстреляешь ты. Просто я хочу, чтобы ты сам для себя уяснил, зачем тебе нужно это интервью.
Напреенко: Я наблюдаю некоторые изменения в функционировании фонда V-A-C, который уже несколько лет существует на российской арене.
Мавика: Можно я перебью? Ты говоришь, что ты критик; позволь тебе сказать, что ты невнимательный критик. Потому что речь не идет просто об изменении, мы здесь создаем что-то новое. Осторожнее со словами.
Мы все получили по голове за то, что верили во что-то, верили в политику, я уже тогда все это прошла и повзрослела.
Напреенко: На базе старого фонда строится некая новая институция — давайте так это назовем?
Мавика: Давай! Так мне больше нравится.
Напреенко: Хорошо. Вы создаете музей.
Мавика: Я никогда не говорила этого.
Напреенко: Вы создаете центр V-A-C на ГЭС.
Мавика: Есть по-русски и другие слова… площадка…
Напреенко: Какие новые приоритеты возникают в вашей работе в связи с конструированием этой новой институции?
Мавика: А что ты знаешь про нашу старую работу?
Напреенко: Я видел ее со стороны, но некоторые изменения наблюдаю. Есть ли что-то принципиально новое по отношению к тому, как была организована ваша работа раньше?
Мавика: Мы создали этот фонд семь лет назад из ничего. Главное в моей жизни — это что-то строить, а не разрушать. Что-то делать, что может улучшить этот мир. Так получилось, что мой мир находится здесь, в России. Тебе приблизительно 27 лет — сколько я тут живу. Поэтому право на этот мир у нас почти одинаковое. На этом поле, где ничего не было, мне дали возможность что-то создать. Я говорю не только о фонде V-A-C, у меня и до этого были возможности, когда признаки жизни в российском поле современного искусства были очень слабыми. Помнишь галерею «Стелла»? Люди, которые создали ту галерею, не имели со мной ничего общего, но я тогда, что называется, accepted challenge (приняла вызов. — Ред.) — пошла на то, чтобы что-то строить вместе с ними. В то время впервые обсуждалось, например, что у художников могут быть контракты. До этого не было идеи, что ты платишь художнику за продакшн работы, а потом еще платишь, чтобы ее купить.
Напреенко: Что-то похожее по идее было в Союзе художников в СССР, просто все изменилось.
Мавика: Я не знаю, изменилось или нет. Зависит от того, хочет человек что-то делать или нет, и так я воспринимала свою работу со «Стеллой» и с фондом «Современный город». Этот фонд вообще существовал в подвале, почти без денег. И опять-таки мы там что-то строили. С фондом V-A-C появились другие возможности. Это важно, конечно! Тогда ты задумываешься о том, что надо строить что-то побольше, более стойкое. Мы создали фонд V-A-C, если хочешь, «для экспорта» (на моем бедном русском языке). Я чувствую по вопросам, которые вы прислали, что вам это слово понравится. Но в какой-то момент основатель фонда Леонид Викторович Михельсон, видимо, убедился в том, что наша работа действительно что-то может изменить. Это не просто показ чего-то где-то «на экспорт», а мощнейшая машина.
Напреенко: И в какой момент это произошло?
Мавика: Это произошло в нашей венецианской истории, которая была построена без особого пафоса. Я никогда не забуду украинского боксера — Кличко! Тогда в Венеции приземлился г-н Пинчук с огромным плакатом этого героя и захватил весь Большой канал… в то время мы с Катериной Чучалиной переехали на остров Джудекка, в помещение рядом с вонючим баром, где есть нечего было, и там тихо и спокойно развернули программу. С этой программой мы и убедили Леонида Викторовича, что стоит с этим работать, это не пустая трата времени или показ самого себя.
Мы — частная институция, и у нас один источник финансирования. Мне нужно с этим финансированием создать продукт.
Напреенко: Убедили — то есть показывали ему выставки?
Мавика: Показывали выставки, обсуждали с ним все. Я не знаю, какое у тебя представление об этом…
Напреенко: У меня как раз смутное представление, и мне интересно.
Мавика: Я понимаю, что Леонид Викторович не очень публичный человек, но не все обязаны быть публичными людьми. Он работает как минимум 19 часов каждый день.
Напреенко: Мы все достаточно много работаем…
Мавика: Этому человеку каждый день дают расписание, в котором все расписано по минутам, вплоть до того, когда ему можно поесть. Он занят в другой области, и, так получилось, у него нет времени, нет привычки ставить себя на обложки журналов. Каждый себя ведет так, как ему комфортно, но это не значит, что он где-то там сидит и ничем не интересуется. Мы обсуждаем абсолютно все проекты. Он знакомится с художниками, когда может. Если хочешь, можно сказать, что Леонид Викторович далеко от нас, но активно интересуется нашей работой.
Катерина Чучалина: Я думаю, дистанция достаточно маленькая. Хотя мне не с чем сравнивать, я не знаю, как в других случаях происходит…
Мавика: Просто когда Леонид Викторович понял мощь нашей работы в Венеции, он решил ее более основательно проводить и в России. Он мне так и сказал: «Подожди, а почему же нам не показать там выставки, которые вы тут делаете?» Сейчас понятно ли, почему я говорю, что мы тут не просто меняемся, а создаем что-то новое? Одно дело — иметь private foundation (частный фонд. — Ред.), который в Венеции делает более-менее крупные выставки, а в Москве просто играет с какими-то художниками и в забытых музеях, где появляется с маленькими выставками, а другое — создать нечто в центре Москвы, на виду у всех и, самое главное, для всех, где только на выставки шесть тысяч квадратных метров!
Напреенко: Это ГЭС?
Мавика: Да, ГЭС, он такой. Немыслимо, чтобы им занималась та же маленькая организация, в которой я, Катя и еще три человека, сидя на полу, могли что-то творить. Сейчас совсем другая история, и эта история начинается с нуля.
 Леонид Михельсон презентует проект реконструкции ГЭС-2 мэру Москвы Сергею Собянину
Леонид Михельсон презентует проект реконструкции ГЭС-2 мэру Москвы Сергею СобянинуНапреенко: На каких принципах строится новая работа по сравнению с тем, что было раньше?
Мавика: Раньше мы думали только о Венеции, о том, что там может быть интересно, а сейчас свои истории нужно рассказывать здесь, производить их здесь. Надо менять язык, менять структуру, менять все! И нужно растить кадры, которые это могут делать.
Напреенко: Есть международные институции, на которые вы ориентируетесь?
Мавика: Я не хочу следовать какой-то модели, я хочу создать свою модель, место для всех. Когда есть такое большое пространство, из 300 посетителей, может быть, 150 не знают, почему и куда пришли. Но мы не можем не заботиться о них. Лучше, чтобы они к нам пришли, а не к князю Владимиру. Там же холодно, а у нас будет тепло! Кто-то спрашивал: «ГЭС будет как Тейт Модерн?» В каком-то смысле, наверное, да. Ведь что самое характерное для Тейт? Что там делаются академические выставки, демократичные, понятные всем. Ведь, наверное, надо об этом думать: когда есть 6000 квадратных метров, у тебя социальная ответственность совсем другая, чем когда ты делаешь ювелирное изделие в Музее ГУЛАГа или в другом месте. Когда меняешь кожу, как мы сейчас, это порождает другую ответственность, и самое главное сейчас — понять контекст. Я все время говорю: мы должны знать, где мы находимся. И осознать, например, что мы находимся в стране, в которой в Уголовном кодексе есть 148-я статья! Это факт.
Напреенко: Оскорбление чувств верующих?
Мавика: Да. Мы находимся в такой стране, и мы должны с этим работать. И это только один пример.
Напреенко: Происходят изменения в структурах менеджмента фонда, количество сотрудников резко растет. Для вас это новый тип институции-корпорации?
Мавика: Если у тебя есть 40 000 квадратных метров, которыми нужно управлять, ты не сможешь это делать с коллективом из 15 человек! Придется увеличивать количество сотрудников, придумывать новые функции — то, что я называю «структурироваться». Другое было время, когда мы были портабельной институцией… Ты даже не представляешь, насколько романтично слово «портабельная», насколько нам оно дорого. Но сейчас мы так не можем. Я очень сильно уважаю эту девушку (Катерину Чучалину. — Ред.), и я доказываю это каждым шагом, но всем понятно, что она не может отвечать за программу на 6000 квадратных метров! Это должна быть коллегиальная работа, по-другому это просто невозможно.
Марина Лошак сразу сказала: «Тереза, даже не мечтай! Там будет “Пушкин Модерн”!»
Чучалина: Я думаю, ты понимаешь, что мы представляли собой три года назад?
Напреенко: Примерно понимаю.
Чучалина: Это были связи, административные, юридические, менеджерские. Было сообщество пятерых людей, которые общались круглые сутки… У нас был большой кредит доверия, это была непозволительная роскошь — одновременно себя структурировать.
Мавика: Год назад в декабре я написала своим сотрудникам очень грустное письмо о том, какие мы были молодые, богемные, романтично воспринимали мир, сидели на полу, а сейчас, блин, придется повзрослеть. Потому что совсем другой scale (масштаб. — Ред.).
Напреенко: Но все-таки чья это была инициатива — строительство институции в России и увеличение «скейла»?
Мавика: Когда закончился наш пятилетний контракт аренды в Венеции, я сказала: «О'кей, закроем Венецию и попробуем переехать в Лондон. Создадим кочующую по миру структуру, расскажем про русское искусство, заставим русское искусство разговаривать с разными контекстами». В тот момент Леонид Викторович мне ответил: «Секундочку, давай, во-первых, останемся тут, в Венеции. Здесь все-таки очень хорошо. Раз в год весь мир приезжает сюда, и мы можем сразу захватить большую аудиторию. А во-вторых, нам нужно что-то построить в России. Надо там обосноваться».
А насчет того, почему институция стала большой, — в какой-то мере это было случайно. Была задача найти помещение. Я посмотрела особняки, помещения в торговых центрах, на старых фабриках, у черта на куличках. А потом приехали на ГЭС-2. Мы ее посетили вместе с Леонидом Викторовичем ранним утром очень холодного дня. Мы приехали туда, там было темно и шумно, я вообще не могла понять, где нахожусь, а ему эта машинность сразу понравилась, он инженер. А мне понравилось, что это запретное, огражденное место в центре города, куда никогда нельзя было войти, потому что power station (электростанция. — Ред.). И я подумала: как офигенно — вернуть эту территорию городу! Мне кажется, это очень сильный challenge (вызов. — Ред.). А то, что она большая, — что ж я могу с этим поделать? Мы не имеем права ее расширить или уменьшить. Департамент культурного наследия не даст ее изменить! Она такая, какая она есть (смеется).
Напреенко: То есть идея о расширении была эффектом помещения?
Мавика: Абсолютно! Я больше тебе скажу: мы посмотрели и другую электростанцию, поменьше... Ты знаешь, что есть разные электростанции, которые все рано или поздно закроют? Напротив Белого дома уже закрыли две, но там была какая-то непонятная история — половину здания уже отдали кому-то… И я сказала: нет-нет, не стоит с этим связываться! И есть еще одна, тут, на набережной, — но Марина Лошак сразу сказала: «Тереза, даже не мечтай! Там будет “Пушкин Модерн”!» И так получилось, что мы на ГЭС-2. И это очень даже неплохо…
 Ольга Свиблова, Марина Лошак, Тереза Мавика, Антон Белов и Зельфира Трегулова на презентации проекта реконструкции ГЭС-2. Сзади — Леонид Михельсон
Ольга Свиблова, Марина Лошак, Тереза Мавика, Антон Белов и Зельфира Трегулова на презентации проекта реконструкции ГЭС-2. Сзади — Леонид МихельсонНапреенко: Сейчас есть тенденция к укрупнению ключевых институций, которые заняты искусством в России. И «Гараж» вырос, и Пушкинский растет, и Третьяковка растет, и Эрмитаж открывает филиалы. Что объединяет эти случаи?
Мавика: Это твоя работа — понять, что происходит, я только радуюсь этому. Пусть расширяются, пусть растут, пусть открываются! Лучше, чтобы институции росли, чем монументы князю Владимиру строились!
Напреенко: Мыслите ли вы себя сознательными конкурентами с другими крупными институциями? «Гаражом», например…
Мавика: Нет! Ну пожалуйста! Я считаю, что ты — один из самых умных людей в поле искусства; не задавай и ты мне глупых вопросов, я тебя умоляю.
Напреенко: Раньше V-A-C воспринимался как институция, поддерживающая отдельных художников. Видите ли вы противоречия между политикой поддержки российских художников и построением большой институции по более универсализированному типу?
Мавика: Не вижу. Но всем не угодить, и непонятно, как себя вести. Действительно, меня обвиняли в том, что я тут только своих друзей поддерживаю. У меня и друзей особенно нет, и мои друзья — Вадим Захаров, Андрей Монастырский — в наших проектах практически не принимали участия. Один раз Вадим Захаров был, да и все. Вот как ты думаешь, для кого мы делаем большую площадку?
Напреенко: Вопрос в том, изменится ли ваша политика поддержки художников в России.
Мавика: Я не понимаю, как она должна меняться и почему.
Напреенко: Это была штучная работа, а теперь это машина.
Мавика: У нас раньше было 100 метров, и можно было выставлять там двух художников. А сейчас будут тысячи метров, наверное, сможем больше.
Чучалина: Полагаю, Глеб имеет в виду, что изменился тип институции. Институция, которая была нацелена на местное художественное производство, должна из-за изменившегося производственного цикла изменить формат, расширить его.
Мавика: А почему, ты думаешь, я задала ему вопрос, для кого это делается? Мы делаем это для художников, чтобы продолжить производство, чтобы его расширить.
Чучалина: Безусловно! Оно в любом случае должно быть инкорпорировано и расширено. Ты справедливо ставишь вопрос, как продолжать то, что было начато, и как это расширять и при этом оставаться институцией, которая интересна, условно, широкой аудитории. Это можно решить с помощью внутреннего устройства. Нужно ли больше внимания внутри этой институции уделить резиденциям? Мерить институцию не выставками, а, может быть, единицами производства работ?
Напреенко: Была интересная статья Андрея Шенталя «Импорт-экспорт» о «Гараже»: что культурная политика там мыслится как просвещение российской публики привозными звездами и выставочными блокбастерами. Как вы видите границу между просвещением и колонизацией?
Мавика: Ты считаешь, что статья интересная?
Напреенко: Мне кажется, да.
Мавика: Тебе действительно так показалось? У «Гаража» своя история, и они имеют право ее делать как хотят. Я безумно рада, что они существуют. Потому что они тоже меняют контекст, как меняет каждый, кто приходит и что-то делает.
Когда мы с Леонидом Викторовичем создали фонд, он меня спросил: «Кого мы пригласим с тобой работать?» Я сказала: «Дайте возможность, и я поищу ребят здесь». Катя Чучалина, например, была молодая девочка, Маша Мкртычева еще моложе… Это было уже шесть лет назад. Это был их первый и единственный опыт.
Как будет в новой институции? Я не чувствую, сидя здесь, что я на Востоке, а там — Запад. Я здесь живу свою жизнь, я здесь вырастила двух детей, они окончили русскую школу, потом решили эмансипироваться и уехать учиться в Англию, в Америку, а сейчас возвращаются. Мне тут хорошо, потому что я чувствую, что здесь могу что-то строить. Я верю в своих ребят в фонде и внушаю им уверенность в себе. Но также я уверена, что они сами не смогут управлять этой огромной машиной, наверняка скоро нам понадобится помощь извне. Мне это кажется абсолютно нормальным процессом. Никогда это не плохо — просить помощи.
В договоре прописано, что ты должен отдать все свое рабочее время этим проектам фонда, но не написано, что ты не можешь быть занят на фриланс-проектах по согласованию с руководителем.
Напреенко: Вы считаете, что в России нет опыта управления такими институциями?
Мавика: Где нам найти такой опыт? Таких институций в России никогда не было. Мне негде найти человека, у которого есть подходящий опыт. Однозначно считаю, что кадры не готовы. А ты считаешь, что это не так? Когда мне нужно писать какой-то договор в рамках своей деятельности, в Венеции я могу найти адвоката, который с этим предметом уже работал, а здесь этого нет. Когда ты говоришь о кадрах, ты думаешь о директоре, а я думаю о людях, которые могут решать конкретные вопросы. Ежедневные вопросы. Вопрос ввоза и вывоза культурных ценностей — это простой вопрос, о котором ты в своей прекрасной работе критика не думаешь. А знаешь что? На основе сегодняшнего закона мы не можем открыть ни «Гараж», ни мансарду, ни депанданс! А у меня нет кадров, которые могут решить этот вопрос, правильно выстраивать коммуникации с теми, кто этим занимается.
Напреенко: Это провинциальность?
Мавика: Слово «провинциальность» мне не нравится. Ты обязательно хочешь зайти в схемы: центр и периферия, колонизация и колонизаторы. Мы вместе в открытом поле это делаем. Что тебе в этом не нравится? Это не очень красиво звучит?
Чучалина: Мне кажется, это, наоборот, слишком красиво звучит.
Напреенко: Как вы набираете работников?
Мавика: Встречаемся со многими людьми. Сейчас наших знакомых и друзей уже недостаточно, поэтому сейчас мы всюду пишем, что ищем, например, копирайтера или куратора, который занимается паблик-артом. Но вот Катя не может его найти. И не потому, что все идиоты, а потому, что ни у кого нет такого опыта.
Напреенко: В России идет процесс создания мегаинституций, который уже прошел на Западе, хорошо это или плохо. Возникают ли с бóльшим масштабом фонда принципы корпоративной лояльности? Требование, что для работника фонда центральной должна быть работа в фонде?
Мавика: Видимо, мои сотрудники пришли к тебе жаловаться. Правильно, есть такая проблема. Ты им передай, пожалуйста, что эти требования исходят лишь из необходимости структурироваться.
А «лояльность» — это для меня другое. Мы потеряли двух сотрудников, одного «ушли», другая ушла, и никто из оставшихся не пришел ко мне с вопросом: почему, что случилось? Вот это их уровень лояльности! Разве это имеет отношение к большой институции? У нас не такой большой коллектив, 20 человек. И они не пришли ко мне не потому, что нас стало больше, а потому, что у них эмоциональный запор. Тот факт, что они не проявили интереса к происшедшему, не связан с тем, что их так много и они даже не знали друг друга. Это связано с тем, как люди относятся к своим коллегам. Как каждый интерагирует с другими, как чувствует себя частью чего-то большего. Это связано с тем, что создать коллектив ужасно сложно!
Если человек сегодня есть, завтра нет, сегодня он это делает, а завтра у него депрессия, то ничего не выйдет. Или мы занимаемся детским садом, или пытаемся что-то строить.
Напреенко: А связан ли уход двух этих сотрудников с тем, что работа в фонде должна быть центральной для сотрудника — это прописано в договоре?
Мавика: Да, теперь прописано в договоре. Мы — частная институция, и у нас один источник финансирования. Мне нужно с этим финансированием создать продукт, давай будем называть простыми словами. Когда нас было шесть человек, мы общались 24 часа в сутки, не было нужды прописывать какие-то правила, потому что мы этим жили. Когда станет 250 человек, как ты считаешь, как можно будет понять, работают ли они на создание нашего продукта или на создание какого-то другого?
Напреенко: Вот я и говорю, что это связано с укрупнением — требование в трудовом договоре, что твоя главная «работа» — в фонде V-A-C.
Мавика: Да, оно так и есть. Иначе ты «фриланс», человек, который делает что хочет, с кем хочет и когда хочет. А мы тут работаем по контракту. Когда я сказала Кате: «Ну почему же мы не приглашаем на работу таких людей, как Глеб Напреенко?» — она мне ответила: «Он же “фриланс”, он должен работать на другом поле, он не может ужиться в институции». Ты можешь использовать свое время как тебе нужно, а мы здесь работаем по четким правилам, как и везде в мире. Структурирование рабочего времени — главная защита моих сотрудников. И я хочу, чтобы они в 7 часов вечера закончили работать! Мы все имеем право на свою жизнь вне офиса. Раньше объем работы и обязательства были другие — сейчас другие требования, другие ритмы, другие дедлайны. Мы с Катей общались день и ночь. Сейчас мы не успеваем встретиться. У меня была одна мечта, когда я разочаровалась в политике, — заниматься искусством. И вот сейчас я строитель, адвокат, менеджер, занимаюсь всем, кроме искусства. Но хотя бы строительство в Венеции заканчивается… Ты себе представляешь, что такое строить в Венеции?
Напреенко: Нет. Но думаю, что сложно.
Чучалина: Все эти трансформации — действительно, болезнь роста, связанная со слишком быстрым расширением коллектива, которое ведет за собой как болезненные процессы, так и здоровые, как когда мы решили перезаключить трудовой договор, где прописано, кто где сколько должен работать. У нас была серия собраний с юристом и коллективом, на которых мы обсуждали каждый из этих пунктов, и юрист согласился по большинству пунктов, кроме одного, по которому он не соглашался месяца три. Это касалось продолжительности рабочего дня, условий работы, компенсаций. Мы ему объясняли, что у нас постфордистские условия труда. Юрист говорил: «Объясните, почему вы работаете 24 часа, почему ваша работа продолжается, когда вы приходите домой и читаете книжки? Как мне это соединить с законодательством?» В результате он пошел на уступки, но адаптировал то, что мы ему объясняли, к существующему законодательству.
Мавика: Думаю, что «пошел на уступки» — это неправильное выражение, Катя. Это встреча двух разных миров. Его изначальные контракты — типовые. После долгих дискуссий мы смогли адаптировать типовой контракт под условия этой специфической работы.
Мы купили ее в коллекцию и теперь можем мечтать поставить ее когда-нибудь на Лубянке.
Напреенко: И что получилось?
Чучалина: Степень его эксклюзивности? В договоре прописано юридически точно, что ты должен отдать все свое рабочее время проектам фонда, но не написано, что ты не можешь быть занят на фриланс-проектах по согласованию с руководителем.
Мавика: Не забудь, что это не государственные деньги, которые можно считать общими и поэтому и нашими. Это private foundation (частный фонд. — Ред.). Человек решил финансировать эту деятельность, и он просит тебя работать 8 часов в день, как по закону, на реализацию этого проекта. Как ты себе представляешь, что человек может работать тут и, например, на открытии «Пушкин Модерн»? Что вот Катя будет одновременно работать над нашим проектом и над реализацией проекта Марины Лошак? Если ты часть этой институции, ты часть этой институции! Я же не работаю в другой.
Напреенко: Вы отчитываетесь в своей деятельности перед Леонидом Викторовичем?
Мавика: Да. Притом, когда я это делаю, он стоит с хлыстом (смеется). Что значит — отчитываться?
Напреенко: В какой форме происходит отчет фонда о своей деятельности, финансовый и смысловой?
Мавика: А ты говоришь, не Вышинский! Мы платим налоги. Запиши, пожалуйста, что мы платим все налоги!
Напреенко: В коррупции я вас не подозреваю.
Мавика: Мы с самого начала создали определенную схему, и она тоже сейчас структурируется. Схема такая: во втором полугодии мы составляем программу на следующий год и под нее рассчитываем бюджет, обсуждаем его с Леонидом Викторовичем и с теми, кто занимается финансовыми вопросами. У Леонида Викторовича есть фонд V-A-C и есть другие фонды, которые занимаются строительством детских больниц или школ для одаренных. Мы обсуждаем свой бюджет в рамках этой общей структуры. До сих пор я не помню, чтобы какое-то из наших предложений не получило поддержки. Далее мы начинаем работать с этим бюджетом. Есть финансист, который помогает распределять ресурсы, бухгалтер, который ведет отчеты перед налоговой инспекцией. В конце есть отчет финансовый и есть отчет содержательный, интеллектуальный, эмоциональный, наша история. Они не всегда сходятся.
Напреенко: А в какой форме вы отчитываетесь перед Леонидом Викторовичем как раз о содержательной стороне? Через отзывы в СМИ, посещаемость?
Мавика: Насчет посещаемости с твоей стороны немного нетактичный вопрос. Наши проекты в России пока настолько маленькие, что о посещаемости как о критерии говорить бессмысленно.
 Виктория и Леонид Михельсон и Тереза Мавика на открытии V Московской международной биеннале молодого искусства
Виктория и Леонид Михельсон и Тереза Мавика на открытии V Московской международной биеннале молодого искусстваНапреенко: А отзывы критиков?
Мавика: Были бы критики, были бы и отзывы. По выставкам в Венеции мы делали всегда обзор прессы: писало столько-то СМИ в мире, столько-то людей приехало посмотреть на выставку. А здесь о чем мне докладывать? Один пришел и написал, что мы сделали эталонную выставку, а другой сказал, что это просто г**но. Вот и два комментария. Вас, критиков, тут по пальцам пересчитать можно, включая тебя. На Фейсбуке Анна Толстова как только может всем напоминает, что мы пользуемся грязными олигархическими деньгами. Об этом ему рассказать? Да, мы могли Леониду Викторовичу рассказать, что о нас Дьяконов написал статью. Но сейчас даже Дьяконов писать в «Коммерсанте» уже перестанет.
Напреенко: То есть главное — финансовый отчет и ваши впечатления?
Мавика: Да, и это для меня самое главное — когда мы садимся и признаем, что где-то не получилось то, чего мы хотели.
Напреенко: Проект должен соответствовать изначальной заявке по деньгам и по смыслу?
Мавика: Бюджет — это смета. Ты можешь находиться в рамках этого бюджета либо выходить из них, как получится. А по смыслу… Поскольку мы сейчас не можем рассчитывать ни на отзывы, ни на посещаемость, просто приходит Катя и говорит: «Вам нравится выставка?» — а я обычно отвечаю: «Нет, не нравится». «А мне нравится», — она говорит. Потом приходит Аня Ильченко: «А мы именно это и хотели сделать…» Понимаешь, о чем я? Мы на том этапе, когда проекты в основном делаются для удовлетворения самого куратора! Практически для себя и своих друзей.
Напреенко: А то, что за последнее время было заморожено несколько проектов, связано с болезнью роста?
Мавика: Нет, это связано с тем, что участники этих проектов не выросли. Берем, например, ваш проект «Очерки по истории современности» (организованный Анатолием Осмоловским, Константином Бохоровым, Борисом Клюшниковым, Глебом Напреенко и Александрой Новоженовой. — Ред.).
Напреенко: Можно посмотреть на нашем примере, почему легче закрыть проект, чем завершить его.
Мавика: Почему ты говоришь «легче»? Мы с вами прошли через бурную, болезненную дискуссию, прежде чем решиться не закрывать проект, а отсечь его часть — издание книги. Изначально мы сделали заявление, финансовое и содержательное. Мы должны были создать идеальную группу из пяти человек, которые путем дискуссий должны были произвести определенный продукт. В конце получился не тот продукт! Вот и Катя не даст соврать: так как у меня католическое и коммунистическое образование, я всегда говорю правду и всегда виновата во всем. Поэтому в любом случае проект, который не удался, — это проект, который МЫ не сумели довести до конца. В случае «Очерков» у куратора наверняка не хватило сил ввести ваши анархические голоса в единое русло и получить ту книгу, которую мы планировали получить. Не сумел собрать тексты, достойные быть книгой. Художники и критики не виноваты, виноваты мы.
Напреенко: Есть вопрос об отношениях менеджеров фонда и художников…
Мавика: Кстати, что плохого в слове «менеджер»? Слово «менеджер» сейчас — как будто «проститутка». Это плохое слово?
Напреенко: Есть ощущение, что менеджер — это тот, кто обладает властью в любой ситуации, и это вызывает вопросы.
Участники этих проектов не выросли.
Мавика: Это, наверно, из-за Антона Белова (директор «Гаража». — Ред.) — о нем говорят, что он менеджер и обладает властью (смеется)... Тут какое-то недопонимание. Я не считаю, что менеджер — это тот, у кого есть власть.
Напреенко: Как в фонде регулируются отношения художника и менеджера? Часто это проектная работа, когда они работают вместе. Как разделены их обязанности? Художник должен составлять отчетность, в том числе финансовую?
Мавика: Это раздвоение — менеджер и художник — архаичная, тоже романтичная история. Ты считаешь, что художник — это тот, кто занимается интеллектуальной мастурбацией с утра до вечера и только творит? А менеджер — это какой-то идиот, который собирает чеки? В 2016 году мы с таким представлением далеко не уйдем. Если у художника есть проект, у него есть ответственность перед собой, чтобы реализовать его. Если художник приходит и говорит: «Я хочу это создать» — я говорю: «Давай вместе попробуем понять, сколько это стоит». Мы вместе считаем, сколько это стоит, я иду и получаю финансирование. И тогда возникает вопрос, какую ответственность художник несет не за эту сумму, а за свой проект. Если человек уважает себя, отвечает перед собой, он отвечает и в том, чтобы собирать чеки. Ведь это не мои и не твои деньги, это мы получили средства на проект. А если человек сегодня есть, завтра нет, сегодня он это делает, а завтра у него депрессия, то ничего не выйдет. Или мы занимаемся детским садом, или пытаемся что-то строить.
Напреенко: То есть художник все-таки должен быть немножко менеджером?
Чучалина: Менеджерская составляющая в разной степени присутствует в разных проектах. Например, программа «Расширение пространства» собрала художественные проекты, в которые встроена административная составляющая.
Мавика: Притом надо добавить, что, уже когда мы начинали программу «Расширение пространства», мы говорили себе, что успех не в реализации всех этих проектов! Мы ведь понимаем, где находимся.
Напреенко: А изменились требования к художнику в связи с ростом вашей институции?
Мавика: Раньше мы делали меньше проектов.
Чучалина: На самом деле требования к художникам всегда были такие.
Мавика: Потому что другими они быть и не могут.
Напреенко: Чем закончились отношения фонда и Виктора Мизиано в рамках проекта «Московская кураторская летняя школа»? Мизиано был программным директором Кураторских школ на протяжении нескольких лет. Считался ли он автором проекта и как теперь существует школа?
Мизиано как раз «фрилансер», он не в структуре фонда. Нам интересно сделать из Кураторской школы что-то постоянное, побольше.
Мавика: Я тебе расскажу свою правду. Была «Манифеста-9» в городе Генк. Директор фонда «Манифесты» Хедвиг Фейен обратилась к нам за помощью. Ты представляешь, какое количество обращений мы получаем каждый день со всех краев мира? Сегодня, например, художник из Японии нам написал: «Помогите мне, пожалуйста, реализовать работу». В этой куче и Хедвиг. Я говорю: «Хедвиг, я не заинтересована в том, чтобы быть спонсором, давай мы как-то поучаствуем в процессе…» Она говорит: «Я хочу сделать офигенную работу, но мы не можем ее произвести». И мы помогли сделать скульптуру, которая была на поле перед зданием, башню из автомобильных шин из бронзы, где горел вечный огонь. И это было, конечно, связано с газом, а газ — наша тема (президент фонда V-A-C — председатель правления компании «Новатэк», занимающейся среди прочего добычей газа. — Ред.). Мы купили ее в коллекцию и теперь можем мечтать поставить ее когда-нибудь на Лубянке.
Напреенко: Вместо Дзержинского?
Мавика: Или вместо князя Владимира. В тот момент Виктор Мизиано был президентом «Манифесты». Тогда уже у «Манифесты» было желание приехать в Россию. Хедвиг спросила: «Почему вы не берете на себя организацию “Манифесты”?» Я ответила, что это противоречит тому, как «Манифеста» работает — получая приглашение от местных властей, причем исторически «Манифеста» не выбирала столицы. Результатом этой истории была «Манифеста» в Питере. В то время мы начали мечтать о совместной школе, которая с образовательной программой «Манифесты» смогла бы здесь развиваться. Этот процесс был длинный, болезненный и завершился тем, что от всей «Манифесты» остался в проекте один Мизиано. У Вити плохо получается совместно работать, это такая личность, что ему надо быть одному. Он сделал интересное предложение: попробовать короткую летнюю школу, три недели, когда один художник или куратор отвечает за программу. Это была временная история. Мы не обещали друг другу вечно жить вместе.
Напреенко: Я учился на первой Кураторской школе и воспринимал Мизиано как главного.
Мавика: Если бы я была на первой школе с самого начала, наверное, она воспринималась бы как наша общая школа, но мне пришлось уехать из-за болезни. Маша Мкртычева осталась с ним одна, у нее не было того опыта, который был у него, поэтому в глазах людей она превратилась в его школу, а мы будто ее просто финансировали. При том что Маша проделала огромную работу. И если бы это был только проект Мизиано, то после его ухода он бы завершился. Мизиано, по сути, не составлял программу, а предлагал кураторов, давал основные директивы. И мы тоже предлагали какие-то имена, но не победили. Третий год помню, как я, он и Маша у меня дома, я на диване под капельницей кричу (я тогда болела), что я хочу Ансельма Франке, а Виктор против. Эта была живая дискуссия. А ты себе как это представляешь? Что он сделал проект, а потом мы у него украли? Мы проделали совместный путь. В конце третьего года ему просто стало неинтересно, что можно понять.
Напреенко: И это была его инициатива — уйти?
Мавика: Никто ему не сказал: «Ты нам больше не нужен». Просто засохла эта история. Я его понимаю, это был его художественный проект, но он не мог его продолжать пожизненно. Вот Мизиано — как раз «фрилансер», он не в структуре фонда. Нам интересно сделать из Кураторской школы что-то постоянное, побольше. Но это наша история. Я даже, мне кажется, храню письмо, в котором Виктор говорит, что в таком формате ему неинтересно продолжать.
В каком-то смысле то, что мы делаем, мы делаем для своих детей.
Чучалина: C самого начала мы говорили о том, что Виктор ведет цикл на несколько лет. Потом этот цикл должен смениться на новый формат. Мы декларировали в самом начале, что решения по школе будем принимать вместе с ним. Это нравилось ему все меньше, и в какой-то момент мы должны были принять решение о дальнейшей программе. Он хотел остаться один во всех решениях, брендировать этот процесс…
С уходом Виктора все связи выстраивает только приглашенный куратор, без программного директора.
Мавика: Это совпало еще с тем, что Виктор был очень занят, а я требовала, чтобы мы заранее знали, что будет: ведь школа международная, должны приехать люди... А заранее не получалось.
У школы будут и другие трансформации. Я очень рада, что мы делали с Мизиано этот проект, но жалею, что не настояла тогда на том, чтобы делать его с «Манифестой».
Напреенко: В заключение хочу еще раз уточнить. Можно ли сказать, что идея заниматься локальным контекстом исходила лично от Леонида Викторовича?
Мавика: Ты хочешь расставить акценты на том, что пришел олигарх и сказал: «Давай сюда!» Можешь меня пытать, но это не тот человек! Мне жалко, что вы незнакомы и ты не можешь убедиться в этом лично. У меня была мечта, что мы сделаем целое здание в Венеции! А у него была личная, сентиментальная потребность что-то делать здесь, в России. И, поверь, он не готовится к политической карьере, это я не рекламу ему делаю. Хочешь знать, почему у него такая потребность?
Напреенко: Если у вас есть ответ, то интересно.
Мавика: Конечно, есть ответ! Странно, что ты мне не задаешь этот вопрос. Леонида Викторовича все время радует количество молодых людей, которые нуждаются в культуре. Два раза его вытащили на «Винзавод», и там было очень много людей — просто повезло, «Винзавод» тогда только открылся. У тебя нет детей?
Напреенко: Нет.
Мавика: Когда у тебя есть дети, ты на них проверяешься. Я пытаю своего ребенка, ему 15 лет: «Какой должен быть музей, чтобы тебе было интересно?» У Леонида Викторовича тоже есть дочка, которая смотрит на мир другими глазами. Ему 60 лет, он инженер из города Самары. Эти неизлечимые три пункта делают человека. А четвертый пункт — он любопытный. Больше, чем любопытный! У него жажда понять, создавать, а еще — очень быстрая реакция. Он все время рассказывает, что, когда попал в Париж со своей маленькой дочерью, хотел пойти в Лувр, а дочка сказала: «Папа, я хочу в Помпиду! Смотри, как там красиво!» Он туда пошел и удивился: «Как так — ей интересно, а я тут ничего не понимаю?» В каком-то смысле то, что мы делаем, мы делаем для своих детей. Когда ты меценат, человек, который готов вложить свои средства из чувства социальной ответственности, тобой движет чувство ответственности перед своим ребенком, перед молодежью, перед другим поколением, перед будущим. У тебя возникает чувство, что, когда у тебя что-то есть, тебе нужно этим поделиться, попытаться вырасти вместе с обществом. Это прекрасный процесс, и в течение этих шести лет Леонид Викторович очень сильно изменился!
Я понимаю, что твоя задача в этом интервью — не рассказать о наших достижениях, а раскрыть внутренние механизмы. У меня нет цели тебе рассказать, что все идеально и что мы знаем, как все будет. Мы растем, и есть трудности, где-то проваливаемся, где-то недоделываем. Скоро кто-то более опытный придет нам помочь. Но в 2019 году мы откроемся. Понравится — хорошо. Не понравится — тоже хорошо. Создать то, что понравится всем, невозможно. Фонд в своей истории тоже не угадал всех — помнишь, сначала говорили, что у нас только свои художники, что я их продаю, что я с ними сплю! Но мы все равно шли вперед и делаем свой вклад. И пусть каждый по-своему тоже вкладывается.
Публикация интервью вызвала обсуждение в Фейсбуке, которое можно прочесть тут.