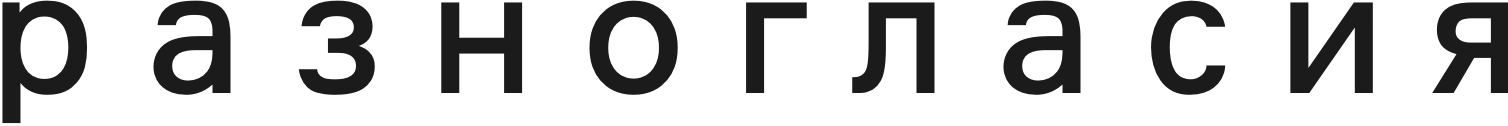Танцуй и умри
Философ Бенджамин Нойс об электронной музыке, устаревании, трении и эстетике акселерации

«Разногласия» публикуют эссе философа и теоретика культуры Бенджамина Нойса о трансформациях электронной музыки с 1980-х годов, вышедшее впервые в 2014 году. Будучи марксистом, Нойс размышляет о связях производственных структур с музыкой — как если бы автор «Социологии музыки» Теодор Адорно писал о техно. Применяя понятия «трение» и «напряжение», Нойс пытается представить проблему современного акселерационизма в диалектическом виде и дать ей практическое измерение в анализе музыки.
С английского текст перевела Элла Россман.
Современность — это момент постоянного ускорения. Таков типичный диагноз нашей эпохе, опирающийся на идеи социолога Хартмута Розы о тоталитарном характере социального ускорения. Однако я говорю о другом. Я имею в виду появление новых модусов акселерационистского мышления, в которых силы ускорения рассматриваются как средство для анализа существующих форм знания и технологий, способных стать источником для некапиталистического будущего. С этой точки зрения мы не ускоряемся вовсе или ускоряемся недостаточно. Утопая в капиталистическом кризисе, мы сталкиваемся с истощением утопических обещаний ускорения, питавших весь авангард ХХ века, от итальянских футуристов до художников британской «Независимой группы» 50-х. Маринетти в «Манифесте футуризма» провозглашал: «Молодые и сильные пусть выбросят нас на свалку как ненужную рухлядь!» [1] Ускорение принадлежало молодым, всем тем, кто способен потеснить своих старших современников, превращая их во что-то архаичное. В наше время мы являемся свидетелями своего рода «передела», борьбы за перераспределение этого ускорения, чтобы вернуть «страсть к реальному» (Бадью), свойственную авангардному искусству. Мы отчаянно пытаемся покинуть ветхий дом капиталистической системы и вернуться (фигурально) к юности переизобретения. Я бы хотел прочертить следы этой борьбы в формальных приемах современной танцевальной музыки. Ее ускоряющийся ритм, выраженный в росте числа ударов в минуту (bpm), превращает танцевальные композиции в эстетическую модель, позволяющую реактуализировать идею об ускорении. По этой причине она часто рассматривается теоретиками акселерационизма.
Утопая в капиталистическом кризисе, мы сталкиваемся с истощением утопических обещаний ускорения.
Однако сама идея о необходимости акселерации проблематична. Она основана на уже доступных нам образах ускорения, очень неоднозначных, и, подобно другим способам представить себе будущее, может представлять собой лишь память об ускорениях прошлого. Как я покажу, в этих образах часто теряется важность напряжения (tension) и трения (friction). Тем не менее говорить об акселерационизме важно: он отражает чаяние людей преодолеть капитализм, который превратился в систему хаотичную и в то же самое время — статичную. Кажущаяся монополия капитализма на ускорение подталкивает нас к тому, чтобы выявлять новые его формы, способные противостоять капиталистической системе. [Арт-критик и куратор] Жан Морено (2013) в своей вступительной статье к выпуску журнала e-flux, посвященному акселерационистской эстетике, утверждает, что она дает нам возможность найти компромисс между «новаторскими картографическими упражнениями» и «тупиковыми нигилистическим идеями». Она способна расколдовать для нас настоящее.
Мой критический анализ электронной музыки будет включать в себя три важных исторических этапа. Первый связан с т.н. классическим акселерационизмом. Речь идет о работе Ника Лэнда и его коллег из Cybernetic Culture Research Unit (CCRU), которая проводилась в 1990-е годы в британском Университете Уорвик. Лэнд придал «панковую» провокативную форму предыдущим аргументам в пользу социального ускорения, позволяющего выйти к пределам капитализма. Его идеи были синонимичны развитию рейва в жанрах джангл и драм-н-бейс, появившихся в Британии и основанных на быстром ломаном ритме в 160—180 bpm. Второй важный этап в моей критической реконструкции — появление детройт-техно (первая половина 1980-х) и возникновение техно как отдельного жанра современной музыки. Этот «саморефлексивно-афрофутуристический», по описанию теоретика Кодво Эшуна, жанр создал новую, открыто постиндустриальную, акселерационистскую эстетику. И, наконец, третий хронологический период в моем анализе — современная танцевальная музыка. Я рассмотрю ее в связи с современным акселерационизмом. В этой части станет очевидным напряжение, которое появляется, когда мы обращаемся к настоящему моменту и рассуждаем о том, как высвобождаются силы ускорения в наше время.
Ингуманистический танцпол
Ник Лэнд и его коллеги из CCRU сформировали тезисы «классического акселерационизма», свидетельствуя постоянное ускорение капитала с его ростом цен и поглощением всех сфер жизни нечеловечным рынком.

Развивая идеи «Анти-Эдипа» Делеза и Гваттари, Лэнд настаивает, что только псевдо- или антиакадемические формы способны ухватить эти процессы. Однако там, где Делез и Гваттари отступались от детерриториализации, Лэнд ее намеренно форсирует:
«Машинная революция должна пойти в сторону, противоположную социалистическому регулированию производства. Нужно двигаться к еще более разнузданной маркетизации, к полному уничтожению привычных социальных полей. Нам необходимо идти вперед, в ногу с рынком, декодированием и детерриториализацией. Невозможно уйти слишком далеко по пути детерриториализации, вы еще ничего не видели!» (Лэнд, 2013). Для Делеза и Гваттари «абсолютная детерриториализация» асимптотична: на ней можно настаивать, но при этом она недостижима. Для Лэнда же она уже наступила, но в будущем — а именно в 2012 году. Необходимо отметить, что ее реализация на языке CCRU именовалась «суеверием», то есть была «перформативной фикцией» (CCRU, 1999), в то время как настоящее 1990-х уже было взломано киберпартизанами из будущего. Это будущее излучало в настоящее уже-состоявшуюся тотальную детерриториализацию: наркотики, научная фантастика, джангл, теория, биотехнологии — таковы ее следы. Все это возвещало о грядущем предугаданном коллапсе, как если бы «усики будущего прощупывали прошлое».
Не «танцуй или умри», а «танцуй и умри»: бит джангла предвещает нам наше нечеловеческое состояние.
Одним из таких главных предзнаменований был пострейв: джангл и драм-н-бейс. В этой танцевальной культуре интенсифицированной скорости «предстоящее вымирание человечества стало доступным на танцполе». Не «танцуй или умри», а «танцуй и умри»: бит джангла предвещает нам наше нечеловеческое состояние. Треки, использующие сэмплы научно-фантастических фильмов вроде «Терминатора» (1992) и «Хищника-2» (1993), прочитывались Лэндом как зарождающееся на глазах будущее человечества, растворенного и потерянного в потоках детерриториализированного капитала. Джангл был своего рода «уличным футуризмом», популярным авангардом, в своих темных формах (жирные басы, сверхъестественные и жуткие сэмплы) прочерчивающим фигуры вымирания сквозь яркое веселье.
Комбинация электронной музыки и наркотиков сделала возможным «практический антигуманизм»: под действием веществ происходит потеря ощущения собственного «я», которая на рейве сочетается с чувством растворения в движении и звуке. Здесь не осталось ничего от надежд некоторых представителей рейв-движения на возрождение коммунального опыта. Объединившись с новыми «дионисийскими коллективами», Ник Лэнд и CCRU шли за нарочито кошмарной интеграцией человеческого и машинного. Это был не неопримитивизм, а неофутуризм. Однако подобная контрмифология все еще оставалась мифологией, не заинтересованной в политических, социальных и экономических противоречиях рейв-культуры. Она должна была результировать эти противоречия в экстазе нечеловеческого, принесшего в жертву все надежды на коллективное и социальное.
Неудивительно, что такая теоретическая фантазия в конце концов аннулировала саму себя. Ее логическим следствием было исчезновение всего человеческого, как будто состояние абсолютной детерриториализации уже было достигнуто. Все это — уже знакомый вариант устаревания по Маринетти. Вместо героического нарратива последнего, вместо ницшеанских по своей сути идей о необходимости нового юного «сверхчеловека» — идеи Лэнда приравнивали ускорение и вымирание, предъявляя изнанку капитализма. Единственный оставшийся субъект — это внечеловеческие силы желания и либидо, неотличимое от капиталистического производства. Лэнд и CCRU оказались растворяющимся связующим звеном между знамениями будущего и, как они считали, уже-реализованным будущим акселерации.
В последовавшей за джанглом и драм-н-бейсом музыкальной культуре произошла своего рода джентрификация разрушающей нечеловеческой силы капитала. Теперь взгляду предстал капитал «с человеческим лицом».
Конечно же, это будущее так и не наступило. Джангл и драм довольно быстро выдохлись. После недолгой гегемонии этих форм пострейва танцевальная культура сначала пошла по пути все большей фрагментированности, постоянного роста числа стилей, а потом вернулась к конвенциональным формам UK Garage, где скорость упала до 130 в минуту, а ломаный ритм сменился размером в четыре четверти. Произошел «откат» к предшествующим формам танцевальной музыки, преимущественно к хаусу, к «живому» соулфул-звучанию. Этому процессу сопутствовало возвращение представителей танцевальных культур в объятия гедонистического капитализма: шампанское, модная одежда, дизайнерские бренды, а также более традиционные элементы клубной культуры. Все это выглядит как какая-то более одомашненная форма культуры, нежели джангл. И действительно, ее можно назвать живым воплощением идеологии капитализма как такового. В последовавшей за джанглом и драм-н-бейсом музыке произошла своего рода джентрификация разрушающей нечеловеческой силы капитала. Теперь взгляду предстал капитал «с человеческим лицом», основная черта которого — показное потребление — вполне человечна по своей натуре.
Горькая ирония заключается в том, что в этом музыкальном контексте джангл и драм-н-бейс стали объектами нового типа музыкальной ностальгии для тех, чья молодость прошла под эти ритмы. Эта возрастная группа потребляла устаревший пострейв совершенно так же, как другие группы — любой другой подобный продукт. Они посещали популярные ностальгические вечеринки и участвовали в трогательных собраниях. Диджеи и музыканты по-прежнему гастролируют, треки не перестают издаваться, но их форма за небольшими исключениями остается застывшей. Она как бы окаменела в 1990-е и с тех пор не видоизменяется. Этот процесс не является чем-то необычным, подобная судьба постигла многие авангардные течения в искусстве. Художники, мечтавшие уничтожать музеи, оказывались вскоре музейными экспонатами. В популярной культуре форма застывает куда быстрее, чем в искусстве. Однако до размышлений об этом Лэнд со товарищи так и не дошли: они слишком много инвестировали в акселерационистскую эстетику своего времени, и, когда ожидаемое будущее так и не наступило, им осталась лишь ностальгия по этому неслучившемуся проекту.
Night Drive thru Babylon
Детройт-техно распространилось за пределы давшего ему имя города в первой половине 1980-х гг. Жанр основывался на подчеркнуто акселерационистской эстетике: число битов в минуту возросло по сравнению с предшествовавшими хаусом и диско, такие остатки человеческого, как голос вокалиста и живые инструменты, доминировавшие в этих жанрах, были сведены к минимуму. На смену душевному вокалу пришел механизированный, постоянно повторяющийся сэмпл. Особенностью детройт-техно стало позитивное отношение к механизации или компьютеризации музыки в любом возможном виде. Образцом, фиксирующим эту страсть к повсеместной компьютеризации, стали альбомы группы Kraftwerk «Man-Machine» (1978) и «Computer World» (1981). Оба альбома оказали огромное влияние на становление детройт-техно, в котором сошлись изобретения пионеров электронной музыки с континента вроде групп Kraftwerk, New Order, Depeche Mode и идеи, появившиеся в других направлениях, например, в творчестве детройт-фанк-группы Parliament / Funkadelic. Апофеозом новой музыкальной формы стала запись «It Is What It Is» (1988) от Rhythim is Rhythim's (aka Derrick May), танцевальный трек, прерываемый короткими сигналами, похожими на спутники Земли.
Музыка отражает то, как мутирует в это время социальное пространство Детройта, переживающее «бегство белых», последовавшее за бунтами 1967 года, а потом деиндустриализацию и изменение репутации города.
Сохраняя составляющие фанка, детройт-техно одновременно стало все больше обращаться к элементам научно-фантастического футуризма в сочетании с мрачной фрагментированностью городских пространств. Такое сочетание можно найти, например, в композиции «Night Drive thru Babylon» от Model 500. Противоречивые элементы внутри этого музыкального направления создавали ощущение то ли новой утопии, то ли китча. Детройт-техно было постфордистской и постиндустриальной музыкой. В нем запечатлелось звучание деиндустриализированного мира. Техно вызывает у слушателя ощущение дискомфорта, особенно у современного, особенно если он знает, что случилось с Детройтом впоследствии. Техно — это стиль, как будто предназначенный для того, чтобы, используя выражение Брехта, «стереть следы» музыкального наследия Детройта, оставив в веках такой его символ, как лейбл Motown [2]. По одному малоизвестному выражению Хуана Аткинса, одного из пионеров жанра техно, «Берри Горди создавал звучание Motown по тому же принципу, по которому создавали автомобили на конвейерной ленте фордовского завода. Сегодня на автомобильных фабриках машины создают при помощи роботов и компьютеров, и мне больше интересны эти роботы, нежели музыка Горди».
Берри Горди, основатель Motown, изначально был работником автопрома. Его лейбл основывался на фордистских принципах и представлял собой, метафорически говоря, линию бесперебойного производства нового звучания с бригадой сменных художников по обе стороны конвейера. Все эти ощущения от продукции Motown открыто визуализируются в промо-ролике группы Martha and the Vandellas на песню «Nowhere to Run» (1965): декорациями для ролика послужила реальная производственная линия на заводе Форда. На странноватой записи участницы группы, пританцовывая, проходят через фордовский магазин красок и цеха завода. Вокруг девушек — работники фабрики, по большей части афроамериканцы. Некоторые из них пытаются заигрывать с певицами, другие полностью их игнорируют, сосредоточившись на труде.
Детройт-техно сегодня для всех стало олицетворением постиндустриального звучания и постиндустриального музыкального производства. Его создатели делали ставку на индивидуальность одиночек и привлечение новых технологий, таких, как сэмплеры и драм-машины. На заводах роботы заменили рабочих, а в музыке — команду музыкантов и оркестры. Вместо того чтобы отвергать такое положение дел, как происходит в музыке «синих воротничков» и в протестной музыкальной культуре 1970-х, детройт-техно с радостью приветствует новый мир, в котором «переменный капитал» (человеческая рабочая сила) сменяется «постоянным капиталом» (машинами). Музыка отражает то, как мутирует в это время социальное пространство Детройта, переживающее «бегство белых», последовавшее за бунтами 1967 года, а потом деиндустриализацию и изменение репутации города: теперь он мыслился еще и как точка на карте, где встретились музыканты Деррик Мей, Хуан Аткинс и Кевин Сандерсон, «Трио из Бельвилля», создатели нового жанра. В утопии, которую представляет нам техно, главным героем является нечеловеческое «я» робота, помещенное в декорации будущего из научно-фантастической литературы. По словам Кодво Эшуна, «продюсеры техно, такие, как Аткинс или Мей, обращались к фантазиям о киборгах, чтобы как можно дальше уйти от какой бы то ни было аутентичности звучания, чтобы обрести свой дом в этой отчужденной реальности». Названия групп (Cybotron, Model 500, Drexciya), лейблов (Transmat, Red Planet), музыкальных композиций («No UFOs», «Skynet», «Apollo», «Alpha Centauri», «Waveform2»), а также изображения на обложках пластинок фиксируют этот ироничный, иногда совершенно китчевый, «футуризм» техно.
Техно — это не просто отстраненная фиксация перехода к «новому порядку», это моментальный снимок коллапса больших структур.
Конечно, такое безусловное принятие новой реальности в детройт-техно не было беспроблемным. Деррик Мей, одна из главных фигур в этом музыкальном направлении, размышлял об этом следующим образом: «Фабрики закрываются, люди оказываются ненужными. Старый индустриальный Детройт разваливается на части, его каркас обрушен. Это настоящее преступление, это убийство, которое совершил американский капитализм. Шестилетние дети носят пушки, тысячи темнокожих больше и не думают о том, будут ли они когда-нибудь снова работать. В таком контексте невозможно писать гармоничную музыку. В Британии сейчас популярна группа New Order [“Новый порядок”], а наша музыка — это “новый беспорядок”, в ней много болезненного».
На последнее суждение Мея я бы возразил: в случае техно бросается в глаза именно то, какой упорядоченной ощущается эта музыка. Слаженность и непрерывность техно отсылают нас к уравновешенности машинного механизма. Тем не менее мы видим размышления о «беспорядочности» такой музыки, отражающие конфликты, которые порождает процесс деиндустриализации. Техно — это не просто отстраненная фиксация перехода к «новому порядку», это моментальный снимок коллапса больших структур.
Иными словами, мы снова имеем дело с логикой устаревания. Когда музыканты техно ставят своей целью показать, какой устаревшей в их время была музыка Motown, когда для этого они приходят к «слиянию» с машиной, реальности киборга, они в своей музыке фиксируют упадок старого фордистского порядка. При помощи элементов из научной фантастики нам рассказывают об изменении ситуации с рабочей силой на производстве, причем этот социальный феномен подается в отвлеченной атрибутике утопического футуризма, позволяющей игнорировать реальную дистопию Детройта. Многие музыканты впоследствии переехали из Детройта в Европу, в Берлин или Амстердам, таким образом пытаясь воплотить в жизнь собственную версию того, как можно избежать кризиса занятости в деиндустриализированном мире.
Техно само по себе, как и в случае с джанглом или драм-н-бейсом, стало объектом воздействия все тех же процессов устаревания. В дальнейшей жанр будет развиваться самыми разными путями, однако к сегодняшнему дню он стал лишь одной тонкой нитью в ткани современной электронной музыки, и это вовсе не нить основы. Удивительно только то, насколько более изобретательными кажутся оригинальные записи в сравнении с их обработкой в композициях техно. Выделение техно в отдельный жанр происходило параллельно с «окаменением» формы, и результаты этого процесса неоднозначны: в основе многих композиций оказывается одна и та же «застывшая» модель, растерявшая весь энергетический заряд исходного звучания.
Напряженность детройт-техно периода его становления включала эмоцию страха, тревогу человека, который видит, как устаревает окружающая его реальность.
Конечно, в дальнейшей истории развития техно были и свои находки, свежие изобретения: например, необычный микс даба и техно от берлинского лейбла Basic Channel, или композиции, выходившие под грифом франкфуртского Mille Plateaux и представляющие собой фантазию на тему микротехно, или clicks and cuts с их быстрыми и неожиданными прыжками и жесткими стыками дисгармонирующих звуков. Однако все это — лишь исключения, в целом же формализация жанра привела к появлению очень продуманного, выверенного техно, которому не хватает напряжения исходного музыкального текста.
Формализация жанра, ко всему прочему, привела к ощущению, что техно потеряло ту энергию, которая нужна, чтобы говорить о будущем. Изначально афрофутуризм детройт-техно позволял ощущать напряженность грядущего, в котором ручной труд может полностью перевоплотиться в машинный. Постепенно Детройт как город перестал быть одним из элементов такого будущего, он стал местом, которое капитал игнорирует, и этот факт позволяет мне предполагать, что напряженность детройт-техно периода его становления включала эмоцию страха, тревогу человека, видящего, как устаревает окружающая его реальность, а не только предвкушение будущего. Детройт-техно — это музыка, которая признает угрозу устаревания, а не только фиксирует радость ускорения. И именно это ощущение угрозы устаревания делает эстетическое сопротивление техно архаичным по форме.

GIF-музыка
В современном акселерационизме вновь видоизменяется ранее описанная схема Ника Лэнда. Если для Лэнда ускорение было частью внутренней сущности капитализма и его поиск был связан с риском растворения в потоках этой системы, то в современном акселерационизме ускорение мыслится как что-то, что противостоит капиталу. В важном тексте «#Accelerate manifesto for an accelerationist politics» его авторы Ник Шрничек и Алекс Уильямс утверждают, что представление Лэнда о возможностях капиталистического ускорения само по себе ошибочно и очень неолиберально. Нужна не скорость как таковая, а именно ускорение, представляющее собой «управляемый экспериментальный процесс поиска в незамкнутом пространстве возможностей». Причины возражений Лэнду со стороны Шрничека и Уильямса кроются не только в том, что они опасаются продолжить мыслить в терминах капитала. Важно то, что они пытаются найти выход из инерционного кризисного неолиберализма, из новых непрозрачных форм спекулятивной экономики, которая пришла на смену динамизму прежнего капитала. Наше будущее было украдено спекулянтами современности.
Сущность этого нового типа акселерационизма по-прежнему фиксируется в искусстве танцевальной музыки. Впервые в истории внутри нее зародился вариант именно музыкального акселерационизма. Как писал об этом Марк Фишер, «в то время как музыкальная экспериментальная культура ХХ века была захвачена сумасшедшей идеей о бесконечной перестановке элементов, которая ощущалась как неисчерпаемый источник новизны, искусство ХХI века переполнено сокрушительным ощущением конечности, истощения вариантов». Говоря о музыке ХХ века, Фишер имеет в виду, очевидно, техно, джангл и драм-н-бейс.
В музыке футворк нет ничего перетекающего, ее форма принципиально иная, она фиксирует современность и в то же время выражает сопротивление по отношению к ней.
Другой теоретик, Саймон Рейнольдс, пишет, что 1990-е гг. были «хардкорным» периодом в британской рейв-культуре; единая линия прослеживается в самых разных перевоплощениях экспериментальной музыки — рейве, джангле, драм-н-бейсе и грайме. Об инерционных силах в развитии танцевальной музыки писал и Алекс Уильямс, который использовал в своих работах термин Рейнольдса «ретромания», утверждая, что современная музыка паразитирует на прошлом и производит лишь пастиши из прежних жанров, воспроизводит и перепроизводит славное музыкальное прошлое. Наше время — это время ностальгии по будущему, которое когда-то было нам обещано. «Сегодня — это завтра, которое тебе обещали вчера» — гласит название одной из работ художника Виктора Берджина. Уильямс пишет о ретромании популярной музыки как об элементе «поп-культурной логики позднего неолиберализма».
Когда мы размышляем о современном акселерационизме, перед нами встает следующая проблема. У Лэнда акселерационизм имел конкретный субъект ускорения — капиталистическую систему — и свою эстетику: джангл и драм-н-бейс. У нынешней версии акселерационизма нет ни того, ни другого. Если нынешний момент ощущается как неподвижный, откуда взяться идее ускорения? Эта проблема ясно прослеживается в недавно напечатанном тексте Марка Фишера о стилях джук и футворк, формах чикагского гетто-хауса с ритмом в 155—165 bpm и постоянно повторяющимся агрессивным вокальным сэмплом (пример такой композиции — «Fuck Dat»).
Может показаться, что стиль футворк является продолжением этого «хардкордного периода» в истории современной музыки и для него свойствен иной тип ускорения, опровергающий взгляд сегодняшнего акселерационизма на современность как на время застоя. Фишер отказывается от такого определения футворка и подчеркивает, что отличие его от джангла очевидно: последний был «темным, но влажным, вязким, обволакивающим», первый же «странно обезвожен».
Эта кажущаяся «обезвоженность» футворка связана с отсутствием какого-либо поступательного движения в ритме этой музыки. Современный акселерационизм концентрирует в себе силы, которые действуют в жидкостях, в этом он — совершенно неожиданно — отсылает нас к идеям Люси Иригарей, если извлечь из них концепт «гендера». В музыке футворк нет ничего перетекающего, ее форма принципиально иная, она фиксирует современность и в то же время выражает сопротивление по отношению к ней.
Наше время — это время ностальгии по будущему, которое когда-то было нам обещано.
Фишер отмечает, что визуализацией футворка можно назвать «дурную бесконечность заикающейся GIF-анимации с ее фрустрированной длительностью, с создаваемым ею ощущением, что ты попал во временную ловушку, петлю». В отличие от джангла, футворк, по Фишеру, лишь фиксирует тупики нынешней временной реальности. Как пишет Алекс Уильямс в одной из своих работ, современный человек страдает от «хронологической болезни», расстройства восприятия времени. Мы уже не можем мыслить себя как часть некоего будущего, мы больше не верим в будущее и можем лишь снова и снова переживать остановившийся момент настоящего.
Футворк открыто признает тупиковость ситуации и фиксирует ее. В техно, пишет Фишер, из любого тупика всегда имелся выход, некое решение, к которому, например, прибегает в своих работах группа The Actress, — составить что-нибудь новенькое из элементов преждевременно отброшенной фантастики и различных шумов. Альбом «Ghettoville», выпущенный группой The Actress, — это картография исключения во вполне уместном параноидальном стиле, учитывающем сущность нынешнего момента. Внутри этой картографии находится место для ремейка, и речь идет не об очередном случае «ретромании», а о восстановлении потерянного напряжения, энергии. В частности, Фишер пишет о том, что альбом представляет собой своего рода реестр множества форм социального и политического исключения и несправедливости, что вызывает у слушателя настоящее чувство гнева. Именно это позволяет альбому «вновь обрести будущее».
Алекс Уильямс тоже придерживается схожей логики. Если джангл воплощал «лэндианское воображаемое апокалиптической параноидальной эйфории», то сегодня мы лишены этой «отчуждающей темпоральности». Будущее базируется на «пробивающейся энергии лучшей музыки из Британии, на постгуманистической изобретательности, архивах инопланетных сэмплов и манипуляциях с неперсонифицированным желанием». Я оставлю в стороне национализм такого заявления, но центральный тезис остается неизменным. В то время как мы живем в постоянной ностальгии и ретромании, некоторые ее моменты могут все же спасать и пересобирать утраченные энергии. Если и не существует цельной эстетики акселерации, мы должны отслеживать, искать и конструировать эти ускользающие моменты «пробивающейся энергии». Несмотря на весь антиностальгический пафос акселерационизма, ему придется собрать для себя иную форму ностальгии. Мы должны отправиться назад в будущее, спасая моменты эстетической и политической акселерации от забвения.
В техно из любого тупика всегда имелся выход.
Устаревшие будущие
Современный акселерационизм усиливает противоречия между логикой ускорения и логикой устаревания и приводит их к крайне напряженной точке: ведь само понятие устаревания создается в процессе ускорения. Необходимо вернуться к прежнему состоянию, когда то, что воспринималось как ускорение, на деле оказывалось устареванием, чтобы произвести обещанное будущее, позволяющее нам выйти за пределы несчастий нынешнего времени и достичь нового типа ускорения. Мы вынуждены что-то решать, и речь идет не о выборе между ускорением и ретроманией, а о решении вернуться к прошлым моментам ускорения и реактивировать их, противясь инерции сегодняшнего дня. Нам нужно сделать выбор в пользу «правильной» ретромании, чтобы преодолеть застопорившееся настоящее.
Существует множество других политических и эстетических стратегий, основанных на идее возвращения в прошлое, необходимого для изменения будущего. Проблема этой стратегии заключается в тех условиях, в которых находится сегодняшний акселерационизм, ставя перед собой такую задачу. Изображая настоящее как статичное и сводя прошлое исключительно к следу скорости, мы теряем ощущение напряжения и там, и там. В том, что касается настоящего, налицо противоречия и трения между различными попытками возродить капиталистическое производство наряду с неравным распределением богатств. Неспособность обратить на это внимание приводит современный акселерационизм с его мечтами о реорганизации технологического производства к опасному сближению с некоторыми идеологиями креативного разрушения (creative destruction). С эстетической точки зрения в распоряжении акселерационизма — длинная история изменения художественной формы, пространство для активного вмешательства, что, однако, может как дать преимущество для действия, так и ограничить его. Эндрю Лисон отмечает, что если принять гипотезу о существовании некой «хардкордной эпохи» развития электронной музыки, то современные композиции и новые жанры так или иначе должны отсылать к этому континууму или прямо развиваться из него. Это может привести к тому, что современный акселерационизм продолжит верить в возможности этого инерционного континуума, вместо того чтобы пытаться как-то бороться с его тенденциями к возвращению и перестановке элементов. Часто эти возвращения не становятся основой для появления новых ускорений, происходит лишь фиксация условий того «хардкордного периода» либо анализ «напряжений» внутри него.
Необходимо вернуться к прежнему состоянию, когда то, что воспринималось как ускорение, на деле оказывалось устареванием.
Если так происходит, то вопросы к этому периоду электронной музыки оказываются чем-то более сложным, нежели просто попытками понять типы ускорений прошлого. Я уже писал о том, что детройт-техно фиксирует напряжения и трения постиндустриальной эпохи, одобряя при этом присущий ей тип ускорения. Вместо радостного приветствия, обращенного к постиндустриальной реальности и будущему, наполненному полированными машинами, мы находим в этой музыке игру страхов и тревоги. Лэнд и CCRU совершенно верно обратились к жанрам джангла и драм-н-бейса. Осмысленная игра с ужасом в этой музыке, особенно в так называемом темном джангле, показывает нам человека, который находится на грани полного исчезновения, ухода человека как вида в прошлое. И этот энтузиазм при описании подобного устаревания человеческого у Лэнда не должен нас смущать: он сообщает нам о той тревоге, которую они испытывали, добровольно соглашаясь со своей ролью представителей вымирающего вида. Нечто пугающее осталось в достижении состояния интегрированной машины, и обещание устаревания человека осталось намеком в заброшенности человеческого.
Все эти точки напряжения раскрываются в работах Уильямса и Фишера, однако, на мой взгляд, описаны неполно и местами бессвязно. Часто размышления об этих вопросах оканчиваются однобоким противопоставлением ускорения и ретромании, тогда как требуется более сложный анализ, поиск тех предельных образов, которые может передавать в своих композициях современная электронная музыка. Авторы отсылают нас к разговору о ностальгии и попытке поймать современное при помощи эстетики ускорения, но последнюю при этом рассматривают скорее как некую данность, нежели сложный многомерный конструкт. Обращение Фишера к термину «хонтология», заимствованному у Деррида, предполагает более сложную работу с процессами повторения, нежели работа с плоской метафорой «хардкорного периода» в истории электронной музыки. Термин, который вводит Фишер, позволяет говорить о времени в категориях Фрейда, например, отсылая к его идее об «отсроченном действии» (Nachträglichkeit). В этом описанном Фрейдом случае нынешняя травма существует через реактивацию травмы прошлого, которая, в свою очередь, осуществляется через этот «отложенный» акт реактивации. Точно так же вместо того, чтобы искать в прошлом какие-то моменты «чистого» ускорения, нам стоит обратиться к более сложному процессу реактивации и переработки прошлого.

Тот факт, что современные акселерационисты обращаются к танцевальной музыке как к полю для дебатов о будущем и об ускорении, крайне важен, однако большие вопросы вызывают их попытки сглаживать углы в своем анализе. В дальнейших размышлениях на эти темы нам нужно уделять более пристальное внимание тому, как происходит устаревание, какова логика этого процесса как на уровне эстетической формы, так и в динамике капитализма, где живой труд замещается мертвым трудом, принимающим форму механизмов и технологий. В первом случае, когда мы говорим об эстетической форме, логика акселерации с необходимостью предполагает «встроенное» устаревание, поскольку форма истощает свои возможности и последовательно стремится проложить новые пути по ту сторону себя. То, что эти пути часто обрываются после первой же попытки двинуться по ним, указывает на сложность выживания таких форм эстетического ускорения. Во втором случае, когда мы говорим о логике капитализма, даже в откровенно акселерационистской эстетике потенциальное устаревание формы и труда не так уж однозначно приветствуется, скорее, всегда ощутимо напряжение, даже в предполагаемой плавности линии ускользания.
Заключение. Трение
Вместо того чтобы представить акселерационизм эстетически или политически гармоничным, стоит учитывать роль трения, которое является важным и когда мы пытаемся ухватить эстетику танцевальной музыки. Его же нужно учитывать, когда мы проводим эстетический или политический анализ застопорившегося настоящего и, если уж на то пошло, анализ моментов прошлого и будущего. Вместо того чтобы обращаться к метафизическим противоположностям «влажного» (со знаком +) и «сухого» (со знаком –), «ускоряющегося» (+) и «статического» (–), «нового» (+) и «устаревшего» (–), нужно учесть напряжение, возникающее в подобном анализе, потому что это напряжение снимает подобные оппозиции.
Трение — это необходимый элемент ускорения и новизны.
В запретах правительства Великобритании на рейв-вечеринки электронная музыка называлась не иначе как «ритмичный шум». В реальности мы имеем дело со сложными композициями, включающими множество вариаций, сильно различающиеся барабанные партии и мелодии синтезаторов, разные сэмплы и другие элементы. Все это становится отчетливо видно, когда диджей создает сет, в котором напряжение между всеми этими элементами имеет решающее значение. Смягчение формы приводит к повторению в его «тупом» изводе, тогда как подчеркивание трения создает различие в повторении. При ускорении ритма до определенного уровня, например, до 1000 ударов в минуту, которое практиковали разные музыканты, становится слышим лишь нерасчленимый шум. Так что чувственные ощущения эстетического ускорения зависят от замедления и увеличения скорости, от различия между элементами, которое производит продуктивное трение. Говоря в терминах более широкой доктрины ускорения, эта нужда в трении как раздражении и прерывании подрывает плавность ускорения, присущую жидкости, — хотя именно плавное и текучее ускорение остается наиболее предпочитаемой метафизикой акселерационизма.
Трение разных музыкальных элементов наиболее эффективно в рамках парадигмы ускорения. Когда техно начинает двигаться по направлению к индастриалу или «темному техно» в поисках художественных средств, которые бы в полной мере могли отразить ощущения ужаса и отчаяния, его композиции становятся куда менее яркими в сравнении с классическим техно. Например, трек диджея Blawan под названием «Why They Hide Their Bodies under My Garage?» (2012) достаточно неприятен, как и следует из его названия. Проблема здесь в том, что столкновение музыкальных элементов приводит к умышленно раздражающему эффекту, что ослабляет напряжение. В случае с детройт-техно речь идет о столкновении утопических и футуристических представлений — с замедлением и ощущением тревоги. Конечно же, как верно отмечает Эндрю Лисон, ностальгирующий музыкант рискует отказаться от развития танцевальной музыки. Воспевание прошлого отвлекает от создания новых форм и приводит к игнорированию постоянно возникающих возможностей для эксперимента.
В запретах правительства Великобритании на рейв-вечеринки электронная музыка называлась не иначе как «ритмичный шум».
Для Лисона альтернативным вариантом новой позитивной формы становится микрохаус — минималистская экспериментаторская форма техно. Мне это кажется заманчивым, но, на мой взгляд, сопряжено с риском создать очередную новую версию ускорения. Столкновение музыкальных элементов снова нивелируется страхом меланхолии и стремлением к отказу от страданий.
Я же утверждаю, что трение — это необходимый элемент ускорения и новизны. Внимание к раздражающему и проблемному в прежних и нынешних формах важно для того, чтобы избежать уплощения как вечного риска акселерационизма. Может быть, все это не так уж и приятно и, вспоминая Маринетти, не «юно», однако предоставляет нам возможность навигации, которой акселерационизм сам по себе не располагает.
Критический анализ прошлых моментов ускорения позволяет нам думать о будущих возможностях, которые не связаны с простой его реабилитацией. На протяжении всего текста я подчеркивал, что напряжения и трение, которые определяют ускорение, связаны с социальными и политическими трениями. Таким образом, когда мы говорим о преодолении трения, мы не настаиваем на замедлении, что означало бы остаться в рамках негативных аспектов акселерационизма. Речь идет о предложении новых возможностей переработки и переизобретения акселерационизма. Я не предлагаю вам новый вариант сияющего будущего, окончательный поворот к юности и ускорению; я говорю лишь о сложном рождении нового грядущего.
[1] Перевод цит. по: Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы. — М.: Прогресс, 1986. С. 158 —162.
[2] В период расцвета техно в кризисе оказалась одна из известнейших детройтских звукозаписывающих компаний, Motown Records, которая распространяла популярную музыку, в частности, направления ритм-энд-блюза.