 Colta Specials
Colta SpecialsБез будущего
 Ирина Врубель-Голубкина
Ирина Врубель-ГолубкинаГлеб Морев: Ира, в «НЛО» вышла книга твоих интервью, которые многие годы публиковались в издаваемом тобой и Михаилом Гробманом тель-авивском журнале «Зеркало» и были, скажем так, доступны (у журнала есть сетевая версия), но мало кому известны. С выходом книги в России аудитория расширилась, московские интеллигентные редакторы, потрясенные вашей беседой с Николаем Ивановичем Харджиевым, перепечатали ее широко известный в узких кругах текст на сайте «Афиши», что, в свою очередь, вызвало бурную реакцию в соцсетях.
И вот по реакции на это интервью стало ясно, что люди совершенно не понимают контекста высказываний Харджиева, не понимают ни его культурного статуса и генезиса, ни ракурса, с какого он оценивает художественный процесс. Харджиев — не один из советских литературоведов и исследователей Серебряного века, как это представляется сегодняшнему читателю, но — и формально, и по самоощущению, утверждавшемуся с годами, — младший современник, друг и соратник Малевича, Мандельштама и Хармса, в каком-то смысле последний русский футурист, человек, который был автором не только научных публикаций, но и постфутуристических художественных текстов (под псевдонимом Феофан Бука). Он мыслил себя наследником Крученых, Хлебникова и, несомненно, относился к тем текстам, которые изучал, без всякой академической беспристрастности. Его самоощущение было самоощущением последнего представителя русского футуризма.
Ирина Врубель-Голубкина: И хранителя.
Морев: И хранителя, да, но не пассивного хранителя, а, так сказать, борца за права людей, чей статус в культуре казался ему несправедливым. Поэтому все интервью и пронизывает идея пересмотра канона, которая шокирует сегодняшних читателей. Одновременно не менее важен контекст публикации интервью. А именно то обстоятельство, что оно появилось в журнале «Зеркало», журнале, жестко — даже, я бы сказал, агрессивно — стоящем на определенной эстетической платформе, для которого Харджиев, конечно, не просто интересный мемуарист, но союзник и единомышленник. Это тоже надо понимать.
Расскажи о том, как ты и Гробман узнали Харджиева, как складывались ваши отношения, с чего они начинались. И как состоялась ваша встреча через много лет в январе 1991 года, когда ты брала это интервью?
Врубель-Голубкина: Книга говорит о среде, этот разговор начинается с Харджиева, переходит в круг Второго русского авангарда и доходит до сегодняшнего дня.
Мы познакомились с Николаем Ивановичем, когда Николай Иванович делал выставки в Музее Маяковского. То есть он делал первые выставки, которые невероятно повлияли на художественную ситуацию в Москве. Там были выставки Ларионова, Татлина, Филонова, Малевича, то есть совершенно немыслимые в ситуации того времени. И мы помогали Николаю Ивановичу вешать [работы на] эти выставки.
 K. Малевич, В. Тренин, Т. Гриц, Н. Харджиев. Немчиновка, 1933 г.
K. Малевич, В. Тренин, Т. Гриц, Н. Харджиев. Немчиновка, 1933 г.Морев: То есть он обнародовал впервые неизвестные работы многих великих художников авангарда?
Врубель-Голубкина: Вещи увидели! Вещи настоящие. И выставка — это все-таки особое событие. В Музее Маяковского, именно Маяковского, повесили фантастические подлинные вещи, добытые непонятным путем Николаем Ивановичем, и собрался круг людей, которые точно знали, что они братья и сестры по крови…
Морев: Они стали точкой притяжения, сбора людей, которые до того разрозненно существовали в Москве?
Врубель-Голубкина: Нет, вообще нет разрозненных кругов. Если мы говорим о Нью-Йорке, к примеру, громадном Нью-Йорке, что значит — круг художников? Это может быть 200 человек. В каждом месте — круги, они очень маленькие. Есенин писал Мариенгофу из Нью-Йорка, что в Нью-Йорке, как и в Москве, мы не нужны никому, кроме нескольких еврейских девочек. Николай Иванович чувствовал себя не то что хранителем и наследником, он чувствовал себя одним из. И, на самом деле, он на эту территорию пускать никого не собирался — и все. Как-то я была у Николая Ивановича. Позвонил [крупнейший исследователь архитектуры русского авангарда Селим] Хан-Магомедов и сказал, что вот написал книжку и хочет ему передать. Николай Иванович сказал: «Положи эту книжку в почтовый ящик». Он говорит: «Она не влезет». И я была свидетельницей того, как пришел Хан-Магомедов, позвонил, Николай Иванович приоткрыл дверь, протянул руку, брезгливо взял книжку и тут же захлопнул дверь. Он считал, что все эти люди — профанаторы.
Жизнь Николая Ивановича и Лидии Васильевны буквально висела на волоске. Это чудо, что они уцелели. Уголовники просто не успели до них добраться.
Морев: Но вы до вашего отъезда в Израиль в 1971 году с ним не поссорились?
Врубель-Голубкина: Нет, конечно. Мы никогда не ссорились с Николаем Ивановичем.
Морев: Мне кажется, что ваши отношения спасла ваша эмиграция.
Врубель-Голубкина: Нет, ни в коем случае. Просто ни в коем случае. Никакого спасения, ничего не могло быть такого, что могло нарушить наши отношения.
Потому что было общее понимание, общее отношение к искусству. И никакой корысти ни в чем, никакой личной заинтересованности, никакого функционирования.
Морев: Вы переписывались с ним, как-то поддерживали связь из Израиля?
Врубель-Голубкина: Очень мало. Мы не доверяли советской почте. Перлюстрация отбивала всякую охоту к переписке.
Морев: И каким образом ты оказалась у него в Москве в 1991 году?
Врубель-Голубкина: Я приехала в Москву, позвонила Николаю Ивановичу. Ну, они с Лидией Васильевной [Чагой] страшно были рады! Я пришла в эту квартиру, заполненную невероятными сокровищами, с невероятной убогостью быта! Это была обычная двухкомнатная советская квартира на улице Доватора, 4, возле метро «Спортивная».
Весь дом был заполнен невероятными книгами. Миша ему как-то подарил уникальный рукодельный каталог выставки «Пятью пять — двадцать пять»...
 Каталог выставки «Пятью пять — двадцать пять»© Собрание М. Гробмана
Каталог выставки «Пятью пять — двадцать пять»© Собрание М. ГробманаМорев: Возвращаясь к моменту вашего знакомства — вот вы смонтировали выставку 1966 года в Музее Маяковского…
Михаил Гробман: И в тот же вечер Николай Иванович поехал к нам домой. Ну, каким-то образом во мне он увидел человека своего плана, своих пониманий, своих реакций. Что было очень интересно, такого не бывало раньше. Ну, было у него несколько оставшихся еще от старых времен знакомых, и этого ему было достаточно, вполне его устраивало, и ему не нужно было каких-то дополнительных друзей.
Морев: Но он в конце концов со всеми поссорился.
Гробман: У нас с ним не было никакой возможности ссориться, поскольку наши отношения были очень специфическими. Харджиев сидел с [Юрием] Молоком на одной из выставок, а мы там ходим, картины вешаем, снимаем, и Харджиев Молоку говорит: «Смотрите…» А я тогда был одет так: кирзовые сапоги и полушубок. И Харджиев, глядя на меня, говорит: «Вот я смотрю, и мне это так напоминает те времена… Миша похож на…» Не помню сейчас, кого он назвал конкретно. Кажется, Бурлюка. Это можно воспринимать как некоторые случайные слова, но слова-то были неслучайными. Люди хотели от него каких-то благ, потому что он был хранителем огромных знаний, или хотели каких-то картин, или еще что-то такое, потому что он был владельцем таких больших сокровищ. Нас соединяло только то, что мы, можно сказать, абсолютно и беззаветно любили тот материал, с которым работали. Его любимые художники — Малевич, Ларионов, Татлин. Приблизительно такой набор был. Конечно, он гораздо более строго относился, ясное дело, потому что он все-таки делил, кто сильнее, кто значительнее, если можно так выразиться.
 Каталог выставки «Пятью пять — двадцать пять»© Собрание М. Гробмана
Каталог выставки «Пятью пять — двадцать пять»© Собрание М. ГробманаВрубель-Голубкина: А почему ты ему подарил «Пятью пять — двадцать пять»?
Гробман: Ну, у Харджиева было все, буквально все. Когда мы беседовали как-то, я ему рассказал о «Пятью пять — двадцать пять», у меня было три штуки. И оказалось неожиданно, что у него нету, что было вообще удивительно. Короче, я ему подарил. Никаких коммерческих отношений у меня с ним не было. И он был счастлив и в итоге тоже мне что-то подарил, не помню сейчас уже что. Но он был, конечно, счастлив этим фактом нахождения. Впрочем, потом Харджиев сказал, что этот подаренный мной экземпляр украл у него Н<...>.
Морев: Но из Израиля вы с ним уже не коммуницировали. И когда Ира позвонила ему в 1991 году, для него это был неожиданный звонок.
Врубель-Голубкина: Абсолютно нет! Позвонил свой человек. Почему бы не ожидать?
В 1991 году, когда я приехала, я позвонила, и, конечно, он очень обрадовался. И, конечно, сразу позвал меня к себе. Я приехала, была безумно теплая встреча. Лидия Васильевна, Николай Иванович. Он мне рассказывал обо всем, что происходило. Я приехала на короткий срок в Москву первый раз [после 1971 года], но обстановка была совершенно потрясающая, близость потрясающая! Я почти каждый день у них бывала и решила с ним поговорить. То есть я даже не решила с ним поговорить, говорили мы всегда, но я решила это записать. То, что он рассказывал, было совершенно уникально. Одиночество было немыслимое. И он чувствовал себя так, что все кругом враги… То есть коллекция незащищенная, два старика...
 Николай Харджиев, 1950-е гг.
Николай Харджиев, 1950-е гг.Морев: В 1991 году ему было 88 лет. Насколько это было старческой фобией, а насколько реальностью?
Врубель-Голубкина: Это не было фобией. Жизнь Николая Ивановича и Лидии Васильевны буквально висела на волоске. Это чудо, что они уцелели. Уголовники просто не успели до них добраться. Не думали мы, что бандиты другого типа разграбят эти сокровища. Ничего старческого в нем не было! Николай Иванович был человек вечно юный. Может быть, это и объединяло их с Мишей, что страсти кипели, страсти существовали. И он этим жил!
Морев: Малевич висел на стенах?
Врубель-Голубкина: Нет. Вообще ничего практически не висело на стенах. Висела, мне кажется, одна работа Ларионова, несколько графических работ, и, конечно, было бесконечное количество книг, всяких футуристических и прочих изданий. Ничего не висело, все было спрятано. Был страх. Страх, что придут, ограбят, заберут, уничтожат.
Гробман: Жили они безумно убого. Какие-то были минимальные пенсии, но Николай Иванович ничего не продавал.
Морев: У Николая Ивановича к тому времени был уже печальный опыт общения с Западом в смысле совместных проектов — история с Бенгтом Янгфельдтом, который к тому времени уже его обокрал.
Гробман: Тогда, в 1991 году, он еще не знал, что его Янгфельдт обокрал. То есть у Николая Ивановича, как у всего советского народа, было ощущение, что Запад спасет. Он еще не знал тогда точно. Он подозревал, он говорил, но конкретно еще этого не было. Он считал, что Запад поймет то, что он делает, Запад оценит. Было такое ощущение.
Морев: В интервью этого нет, но, может быть, вы говорили с ним о планах вывоза коллекции на Запад и обустройства там?
Врубель-Голубкина: Николай Иванович хотел переехать к нам в Иерусалим и соединить свою коллекцию с Мишиной. Вот это был его план. И мы как бы об этом договорились. Мы поговорили здесь [в Израиле] с какими-то директорами музеев, все такое… Но постепенно стало понятно, что вывозить все это надо было неофициальным способом. Ни директора музеев, ни искусствоведы — все эти люди, как и мы, не могли этим заниматься. Но план был такой, и у нас даже есть письма Николая Ивановича, где он пишет, прямо или косвенно, о том, что он хочет приехать.
 Михаил Гробман© Евгений Гурко
Михаил Гробман© Евгений ГуркоГробман: В середине где-то стояла точка, неофициальный вывоз коллекции. И эту точку нам было не обойти… Даже не в нас дело было, а директора музеев не могли это сделать. Это были не те люди, которые согласились бы тайно что-то перевозить.
Морев: Николай Иванович понимал, что эта особенность — нелегальный вывоз — ставит под удар его собственную безопасность и безопасность коллекции?
Врубель-Голубкина: Не шел разговор ни о каком нелегальном выезде. Николай Иванович не понимал всей этой системы, и мы тоже не понимали всей этой системы переезда, выезда… Шел разговор о выезде, он хотел, чтобы ему дали квартиру в Иерусалиме и чтобы он соединил [свою коллекцию с коллекцией Гробмана]…
Гробман: Он готов был отдать всю свою коллекцию, чтобы она находилась в одних руках, пусть не в государственных, но, скажем так, в официальных. И за это чтобы он получил квартиру, в которой мог бы спокойно жить.
Врубель-Голубкина: Наши отношения были абсолютно родственные. Мы долгое время посылали ему еду, всякие сухие бульоны, все. Николай Иванович очень любил мыло, к примеру, и я ему все время отправляла хорошее мыло (смеется).
Морев: Как вы узнали о его отъезде в Голландию?
Гробман: На каком-то этапе он нам позвонил или мы ему позвонили, и он сказал такую фразу: «Все, мы с вами больше этим не занимаемся». То есть он понял, что это — переезд в Израиль — нереально. И тогда закрутилась вся эта история. Мы уже это не обсуждали. Мы уже не участвовали в этом.
Врубель-Голубкина: И потом, на самом деле, мое интервью с Эммой Герштейн посвящено Николаю Ивановичу, оно о Николае Ивановиче, и то, что Эмма там проговаривает о Надежде Яковлевне [Мандельштам], — это то же самое, что говорил Николай Иванович.
Гробман: Это как бы была одна семья, где были все внутренне связаны…
Морев: Понятно, что Эмма Григорьевна корректирует какие-то оценки Николая Ивановича, объясняет их бытовыми обстоятельствами, но это немножко другой статус высказывания. Герштейн — как раз тот самый литературовед, который, в отличие от Харджиева, не имел претензий быть продолжателем дела тех, с кем имел счастье быть знакомым. Герштейн не считала себя ни человеком футуризма, ни человеком акмеизма, а просто была научным работником и другом великих поэтов…
Врубель-Голубкина: Да, близким другом, и Николай Иванович ее очень любил, но относился к ней довольно снисходительно.
Но то, что говорила Эмма о редакции стихов, о понимании стихов, — это то, что говорил Николай Иванович. Это не Эмма. Вот эти пересказы — то же мне говорил Николай Иванович, когда я брала интервью. Он со мной очень-очень много говорил о своих отношениях с Надеждой Яковлевной…
Морев: Это была травмирующая история.
Врубель-Голубкина: Это была невероятно травмирующая история! Тем более он очень любил и уважал Ахматову. И он не хотел ни в коем случае никак задеть в этой истории никого. И при всем при том, что Надежда Яковлевна действительно предала его, нанесла ужасный удар, это все-таки были близкие люди. И это человек круга и человек Мандельштама… И он тогда, на том этапе, не хотел, чтобы хоть одно слово про это было записано [на пленку]. Настолько это было травматично для него. Удар изнутри!
 Работа над выставкой П. Филонова и М. Матюшина в музее Маяковского, 1965 г. Второй справа — Н.И. Харджиев, третий — М. Гробман, шестая — И. Врубель-Голубкина
Работа над выставкой П. Филонова и М. Матюшина в музее Маяковского, 1965 г. Второй справа — Н.И. Харджиев, третий — М. Гробман, шестая — И. Врубель-ГолубкинаМорев: Центральным местом интервью с Харджиевым представляется то, где он формирует свой полемический канон. В живописи — Татлин, Малевич и Ларионов, в литературе — Хлебников и Маяковский. В ущерб остальным, прежде всего, «великой четверке».
Врубель-Голубкина: Его высказывания, на самом деле, замечательные! О том, что есть великие поэты и есть гении. Это очень интересно. Вообще реакции на эту публикацию абсолютно восторженные! Но вот эта дискуссия мне безумно любопытна, потому что она определяет состояние общества. То есть что сейчас происходит? При полной толерантности, при полном отсутствии прямого высказывания, прямого понимания, прямых критериев это уже не ситуация литературной дискуссии, страстей, создания… это ситуация тусовки. Вся эта дискуссия — разговор из тусовки. По правилам тусовки Николай Иванович — преступник. Николай Иванович строит иерархию. И самое интересное, что это не иерархия только Николая Ивановича, это иерархия того времени. Он, как один из людей того времени, как бы передает ее нам... Сейчас это абсолютно неприемлемо. Сейчас все хороши, все приятны во всех отношениях. Но есть люди, которые делают неправильные жесты, и одни из них — мы. Понимаешь, тут еще есть ситуация «Зеркала» с нашими неправильными жестами, нашим непопаданием в общую мирную и прекрасную жизнь.
Морев: Считаете ли вы оправданным длить историческую распрю между футуризмом и акмеизмом, выяснять, условно говоря, кто первый поэт — Маяковский или Мандельштам? Когда это говорит Харджиев, это одно, а когда это высказывание Харджиева оказывается инструментом в сегодняшней эстетической ситуации, это совсем другое. В «Зеркале» интервью Харджиева было подано именно как актуальное высказывание.
Гробман: Но ведь это же не просто какое-то размежевание: вот такие поэты — да, такие поэты — нет. Это же очень точное определение: Хлебников — да, Цветаева — нет. Ахматова, при всей своей близости к Николаю Ивановичу, — да и одновременно нет. Я даже однажды на базе того, что не ценил и не оценил Цветаеву, поссорился с Давидом Яковлевичем Даром. Когда он услышал, что я говорю про Цветаеву, он страшно возмутился. Так же точно, как сегодня, скажем, если речь идет о литературе, Бродский — это фигура номер один, а для нас это, в общем, далеко не фигура номер один.
Морев: Эта тема — неприятие Бродского — продолжается, кстати, в интервью со Станиславом Красовицким…
Врубель-Голубкина: Которое, мне кажется, вместе с интервью с Харджиевым — одно из самых важных в книге. И все, что говорит Стась, — это, в общем, продолжение идей Харджиева. Тут есть еще такая интересная история. В интервью Николая Ивановича одно из самых важных высказываний — когда я у него спрашиваю, что значит «возвращение Серебряного века» и все такое, и он говорит о том, что новое поколение должно бороться, должно отрицать и создавать новое. Сейчас есть ситуация всеобщего плюрализма, всеобщей безоценочности. Это противоположно, конечно, ситуации футуризма. И, мне кажется, отсутствие этого напряжения в обществе, не в обществе вообще, а на поэтической сцене, — это одна из печальных особенностей дня сегодняшнего…
В словах Харджиева люди увидели пафос другого рода, оценочный. Они вдруг увидели настоящую литературную ситуацию. Вот очень интересно, как Миша встречался с Ахматовой. Сколько тебе было лет?
Гробман: Мне было… мне кажется, в 1958 году это было.
Морев: 19 лет. В Москве?
Гробман: Нет, в Ленинграде. Я позвонил ей, и она меня приняла.
Морев: На улице Красной Конницы?
Гробман: Красной Конницы, да. Я пришел к ней, но я не хочу описывать конкретно, интерьер и все прочее, важнее гораздо другое. Мы стали беседовать, я ей что-то рассказывал, она мне что-то стала рассказывать, показала мне книжку на чешском языке — ее книжка, которая только что вышла, толстый томик такой. Чувствовалось, что для нее это важно. Для меня же она была… Я, конечно, с большим уважением относился к ней, но она была каким-то осколком прошлого, которого уже, собственно говоря, нету. Такое ощущение было, что это все уже прожито. И как-то эта встреча с ней, хотя она была симпатичная, интересная, не оставила желания потом с ней опять встречаться. Через год этим занялись Найман, Бродский и так далее.
Морев: Ты почувствовал интерес ее к молодежи, не связанный с ней самой? Ей было интересно, что пишет молодежь?
Гробман: Я думаю, что не очень. Я тоже не искал ее оценки. Может быть, если бы я ее разговорил, она бы что-то сказала. Для нас же Ахматова…
Морев: «Для нас» — для кого? От чьего имени ты говоришь?
Гробман: Ну, вся наша компания. Вот мы говорили тут об обэриутах, и еще до того, как обэриуты прочно вошли в сознание многих людей, Саша Васильев был большим первооткрывателем, в частности, рассказывал всем, читал обэриутов всем, кто не знал еще о них.
Если бы от Пастернака остались только эти стихи «Доктора Живаго», его бы не было просто.
Врубель-Голубкина: Сын одного из [режиссеров] «братьев Васильевых».
Гробман: Да, это сын «братьев Васильевых». Он был постфутуристической холерой, распространителем. То, что он читал людям, то, что он давал, абсолютно было никому не известно.
Морев: Когда ты был у Ахматовой, вы с ней не говорили про обэриутов?
Гробман: Не говорили на эту тему. И мне трудно сейчас назвать кого-то конкретного. Конкретно говорили об Ахматовой. Она сказала мне: «Я вообще никого не принимаю, но вы сказали, что вы из Москвы, и я подумала, что, может быть, вы специально из-за меня приехали…» Я так про себя улыбнулся: из-за тебя я бы не приехал… Наглый был молодой человек! Это для меня было отжившее как бы уже.
Морев: А Пастернак так же воспринимался?
Гробман: Нет. Пастернак тогда жив еще был, и несмотря на то, что он уже писал эти свои стихи, из романа и так далее, он все-таки иначе воспринимался.
Морев: То есть вы любили его футуристическую поэтику, прощали ему «Доктора Живаго» (смеется).
Гробман: Совершенно было ясно, что Заболоцкий — грандиозный поэт, его поздние вещи прекрасны, но они все-таки не то, что ранние… Если бы остались только они, то Заболоцкого бы не было. Если бы от Пастернака остались только эти стихи «Доктора Живаго», его бы не было просто.
Врубель-Голубкина: В интервью с [Валентином] Хромовым есть фантастическая история. Они в 1960-м пришли к Асееву, и на Асеева это произвело немыслимое впечатление. Кто там был?
Гробман: Хромов, [Леонид] Чертков, [Андрей] Сергеев… Асеев увидел в них возвращение себя начального. И написал стихотворение о них.
Талантливые, добрые ребята
пришли ко мне по дружеским делам;
три — не родных, но задушевных брата,
деливших хлеб и радость пополам.
Обручены единою судьбою,
они считали общим свой успех,
но каждый быть хотел самим собою,
чтоб заслужить признание для всех!
Они расселись в креслах, словно дети,
игравшие во взрослую игру;
им было самым важным — стать на свете
собратьями великих по перу.
Дыханье, дух, душа — одно ли это?
И что же их роднит в конце концов?
Передо мной сидели три поэта,
желающих продолжить путь отцов.
Вот — Грибоедов, Тютчев, вот — Державин.
А мне? Нельзя ли Баратынским стать?..
Был этот час торжественен и славен,
оправленный в достоинство и стать…
И я, традиций убежденный неслух,
поверил, что от этих — будет толк.
Три ангела в моих сидели креслах,
оставивши в прихожей крыльев шелк.
И вторая история — с Заболоцким. У Веры Инбер есть воспоминания. Она пишет, что в литературных кругах ходило смешное стихотворение: «А где ты был?» — «У Маньки спал». — «А что жене своей сказал?» — «Сказал, чтоб не было скандала, сказал — начальство задержало». Значит, ходило это стихотворение. И Заболоцкий услышал это стихотворение и после этого написал свое: «День и ночь стирает прачка…» Но ни Заболоцкий, ни Инбер не знали, что это [Игорь] Холин. То есть Заболоцкий был чувствительным к новому. Он почувствовал, что пахнет порохом.
Врубель-Голубкина: Заболоцкий почувствовал новую энергию. Вот эти соединения — они безумно интересны. На самом деле Второй русский авангард не был продолжением футуризма, это было уже западное влияние, то есть влияние мирового искусства, достижений мирового искусства и в поэзии, и в литературе. И вот в этих интервью ты видишь новые очаги напряжения, новые среды. И это очень важно читать вместе. Сейчас, конечно, эта группа — уже прошлое… На самом деле безвременье — оно всегда очень хорошо. Чем хуже, тем лучше. Энергия рождается не в благополучии, не в понимании, в счастье, а в ситуации безвременья. Но вот эти все интервью дают новую энергию.
 © НЛО
© НЛОМорев: Компонуя книгу, собирая из массы опубликованных в «Зеркале» бесед единое целое, из чего ты исходила? Была ли у тебя сверхзадача? Или это просто сборник?
Врубель-Голубкина: Своя задача есть у «Зеркала», и эти интервью — часть программы «Зеркала». Но для нас очень важная вещь — это формирование литературной культурной среды. Это было у Харджиева и вокруг, было в 60-х годах в Москве, когда люди находили друг друга. Учти, вообще 80 процентов людей, которые составляли наш круг, не были москвичами. [Илья] Кабаков приехал из Днепропетровска, Эдик Лимонов явился из Харькова, кто-то был из Сибири… То есть среда была таким полем притяжения. И такое же притяжение было в Израиле. Мы, в общем, были создателями этой среды. «Знак времени», может быть, был здесь первой газетой, которая заговорила на другом языке. Если говорить о Саше Гольдштейне, конечно, он и без нас бы состоялся, но он был один из людей этой среды. О Втором русском авангарде он знал от нас. Многие годы у нас прошли в бесконечных разговорах, бесконечной общей работе. И часть наших разговоров о литературе, об обществе стала, мне кажется, гармоничной частью этой книги. Эта книга не пишется о прошлом, это не воспоминания. Эта книга, эти интервью — о будущем, которое, как сказал Николай Иванович, уже наступило.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиМаленький путеводитель по самому необходимому для вашего спокойствия и продуктивности — от новых цифровых сервисов до практик XIX века
26 декабря 202238222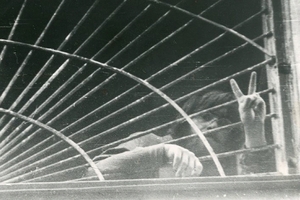 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиРазговор о полезных уроках советского диссидентства, о конфликте между этикой убеждения и этикой ответственности и о том, почему нельзя относиться к людям, поддерживающим СВО, как к роботам или зомби
14 декабря 202254436 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиИзвестный социолог об огромном репертуаре неформальных практик в России (от системы взяток до соседской взаимопомощи), о коллективной реакции на кризисные времена и о том, почему даже в самых этически опасных зонах можно обнаружить здравый смысл и пользу
5 декабря 202235640 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиЧто становится базой для массового протеста? В чем его стартовые условия? Какие предрассудки и ошибки ему угрожают? Нужна ли протесту децентрализация? И как оценивать его успешность?
1 декабря 202282097 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиСможет ли Web 3.0 справиться с освобождением мировой сети из-под власти больших платформ? Что при этом приобретается, что теряется и вообще — так ли уж революционна эта реформа? С известным теоретиком медиа поговорил Митя Лебедев
29 ноября 202248607 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиГоризонтальные сообщества в военное время — между разрывами, изоляцией, потерей почвы и обретением почвы. Разговор двух представительниц культурных инициатив — покинувшей Россию Елены Ищенко и оставшейся в России активистки, которая говорит на условиях анонимности
4 ноября 202236445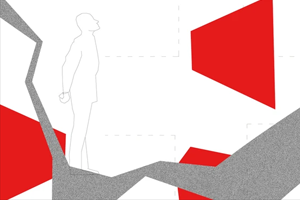 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонтали Вокруг горизонтали
Вокруг горизонтали