 Colta Specials
Colta SpecialsБез будущего
 © Валерий Христофоров / ТАСС
© Валерий Христофоров / ТАССТам в каком-нибудь дымном углу, в конуре сырой какой-нибудь, которая, по нужде, за квартиру считается, мастеровой какой-нибудь от сна пробудился; а во сне-то ему, примерно говоря, всю ночь сапоги снились…
Федор Достоевский, «Бедные люди» (1845)
В 1985 году, впервые попав в Россию, я совершил экскурсию по Москве и окрестностям в автобусе, битком набитом британскими социалистами. Это была не самая удачная компания для совместного путешествия: они носили ортопедическую обувь и дождевики, которые складывались в конвертики, «умещавшиеся в ладони». Им явно хотелось пожаловаться кому-нибудь на скверный завтрак: холодную кашу, плохой кофе, неприветливых официантов. Но они знали, что жаловаться не должны.
Мы расселись по местам, и автобус с мерзким скрипом тронулся; мы ехали на север, в Загорск [1], в Троице-Сергиеву лавру. Экскурсоводша говорила на неуклюжем официальном английском языке, как киношный шпион под прикрытием. Она рассказывала о «безусловно идеальном» союзе атеизма со свободой вероисповедания, который наблюдается в Советском Союзе.
В частности, она с улыбкой произнесла загадочную фразу: «Это олицетворение общественного и духовного». У пассажиров не было ни сил, ни желания о чем-либо спрашивать. Было серое утро; экскурсанты протирали запотевшие окна автобуса и смотрели, как москвичи идут на работу. Где-то на проспекте Мира мы остановились на светофоре. Я заметил женщину у дверей здания: она стояла в потрепанном коричневом пальто и просила подаяния — протягивала руку к идущим мимо нее пешеходам. Я заметил, что у нее в руке лежало несколько пятикопеечных монет, но, судя по тому, что прохожие ее будто не замечали, она положила их себе в ладонь сама. Британка, сидевшая сзади меня, подняла руку и спросила, как это понимать.
— Ваше государство не заботится о бедных, как в Лондоне?
— Обычно такого не бывает, — ответила экскурсовод, удостоив нищенку беглым взглядом. — Скорее всего, женщина, которую вы видите, иностранка. Или цыганка.
Это вышло немного чересчур. Экскурсовод смутилась, а нам всем стало за нее неловко. Остаток пути к русской святыне мы проделали молча.
То были последние дни советского миража. При Брежневе, Андропове и Черненко режим выживал благодаря невероятным доходам от продажи нефти. На пике энергетического кризиса и после его завершения страна разбазаривала свои огромные нефтяные запасы в Сибири, Азербайджане и Казахстане, получая средства для финансирования громадного военно-промышленного комплекса. Остальные сферы экономики были разрушены и функционировали то ли по волшебству, то ли по законам коррупции. Но пока цены на нефть оставались высокими, Кремлю до этого не было никакого дела. Страна могла позволить себе завозить в магазины сыр четырех сортов, дешевую зимнюю обувь и водку по три рубля за бутылку.
 © Corpus
© CorpusКогда в 1985 году Горбачев пришел к власти, нефтяной бум остался в прошлом. Химерическая экономика была мертва. Советский Союз вступил в эру высоких технологий при полном отсутствии таковых: конкуренция ему не светила, он мог надеяться разве что выжить. Положение дел хорошо обрисовывал анекдот: «В Советском Союзе производятся лучшие микрокомпьютеры! Они самые большие в мире!» Запад еще не понял, что его великий противник по холодной войне был по-прежнему опасен, но разорен. «Верхняя Вольта с ракетами» — так СССР назвал Ксан Смайли из Daily Telegraph [2].
Поначалу было трудно осознать масштабы обнищания. В 1988 году выходило гораздо больше статей о психическом здоровье Сталина, чем о бездомных, детской смертности и недоедании. Казалось, что пресса соглашается с замечаниями Эдмунда Уилсона [3], посетившего Москву полвека назад: «Постепенно понимаешь, что, хотя их одежда однообразна, подлинной нищеты здесь почти нет; хотя в городе нет фешенебельных районов, нет и совсем захудалых. На улицах нет неприглядных сцен: не увидишь бродяг, больных, старики не роются в отбросах. Я не увидел ни одной трущобы, даже ни одного грязного квартала». Но теперь, напротив, следы обветшания были повсюду. Тех признаков нищеты, которых в свое время Уилсон не заметил или не хотел замечать, теперь было невозможно не видеть. На нищету вы натыкались на каждом углу, в каждом городе и деревне.
Одним зимним вечером, уйдя с небольшой демонстрации возле редакции «Московских новостей», я зашел в скверное кафе на улице Горького. Я проголодался и замерз, заказал тарелку водянистого борща и сел за один из общих столов.
— Вам ложка нужна?
Рядом со мной сидела женщина, она улыбалась, обнажая ряды металлических зубов. Она протянула мне свою ложку — гнущуюся, грязную, но все-таки ложку. Женщина назвалась Еленой. Последние восемь лет она жила по вокзалам и аэропортам. Летом ночевала в безлюдных парках на окраинах Москвы. «Иногда я получаю пять рублей в день за то, что мою полы в поездах, которые прибывают в Москву, — рассказала она. — Сейчас я без гроша. Все, что у меня есть, вы видите: моя одежда». По словам Елены, некоторых ее подруг выгоняли из квартир мужья и любовники. Идти им было некуда. Сама она писала письма во все партийные инстанции и ни разу не получила ответа.
К нам подсел друг Елены — бомж по имени Леонид. «Я писал Горбачеву, Громыко, всем, — сказал он. — Я отстаиваю свое право на труд и на жизнь, гарантированное Конституцией СССР».
Елена кивнула. «Знаете, нас таких тысячи по стране. Тысячи».
«Сказать по правде, я заработаю больше денег, сдавая бутылки по 20 копеек за штуку, чем на какой-нибудь стройке, — говорил мне Витя Карсокос, чьим источником дохода были помойки. — Главная моя проблема — негде спать: приходится на вокзалах или вообще на свалке, в какой-нибудь коробке. Я бы устроился на работу, но это должно повезти».
Годами, пока государственное телевидение, демонстрируя ужасы капитализма, показывало документальные фильмы о бездомных в Нью-Йорке, московская милиция тщетно пыталась убрать с улиц бездомных. Но их становилось все больше, и милиция не справлялась. Московские бомжи (аббревиатура БОМЖ означает «без определенного места жительства») ночевали на кладбищах, вокзалах, стройках, в подвалах. Излюбленными местами обитания были также чердаки московских высоток: они хорошо отапливались и вентилировались. Бомжами становились пьяницы, брошенные дети, умственно отсталые — жертвы бюрократической неразберихи, потерявшие право вставать в очередь на жилье. Иногда бомжи устраивались на работу — когда за деньги, когда за бутылку водки. Днем можно было видеть, как они разгружают ящики у винно-водочного магазина. Они собирали пустые бутылки в парках и на свалках и сдавали их за деньги. В аэропортах и на вокзалах бомжи помогали таксистам заманивать пассажиров, за что получали небольшой процент выручки. В Москве они могли постоять за вас в очереди; в Средней Азии нанимались в сезон на уборку хлопка.
На Казанском вокзале бродяга по имени Алик пообещал мне рассказать все что угодно за бутылку. Я предложил ему пойти со мной в магазин и вместе встать в очередь. Отсмеявшись, Алик сказал: «Просто дай мне тридцатник». Выхватив у меня из рук деньги, он быстро двинулся по тротуару. Мы успели сделать несколько шагов, и Алик уже нашел то, что искал. Неприметная женщина в пальто мышиного цвета извлекла искомое из кармана, и безмолвный обмен был произведен. Почти бегом мы устремились к заведению с вывеской «Кафе». Внутри, в метре от входа, Алик сорвал пробку и в несколько грандиозных глотков опустошил литровую бутылку. «По утрам я люблю закусить картошечкой», — признался он и, напевая, выбежал на улицу.
Алик был низкорослым и обросшим щетиной. Смену одежды он хранил в вентиляционной трубе на вокзале. По его словам, собирать бутылки ему было западло. «Унизительно, понимаешь. Что я, собака, что ли? — говорил он мне. — Я тебе объясню, как я живу. Когда мне нужны деньги, я просто их беру. Вот у тебя есть рублики, а вот р-раз — и их нет!» За воровство Алик провел большую часть своей двадцатилетней карьеры карманника в лагерях и на поселении. Выходя на свободу, он тут же возвращался к «вокзальной жизни». У него не было разрешения на жительство в столице — «в Москве я никто», поэтому в больницах и вытрезвителях он не задерживался. Облегчить себе жизнь он не хотел. Он был горьким пьяницей. Иногда он по три-четыре дня ничего не ел: «желудок не принимает». Он легко впадал в раздражение и гнев, но уже в следующее мгновение мог стать сентиментальным. Этот самоучка читал наизусть стихи Пушкина и пел песни знаменитого барда Владимира Высоцкого — выкрикивая их в лицо, словно отборную ругань.
«Мои отец и мать работали с утра до ночи, чтобы нас, пацанов, обеспечить, — рассказал мне Алик, когда мы уселись в каком-то пустынном дворе. — Моего брата убили в Венгрии в 56-м, ему было 19. Я иногда думаю, что, если б он остался жив, я бы не пошел по этой дорожке. Я сбежал из дома лет в 16 или 17, отправился в Казахстан. Проголодался — украл первый кошелек. Так началась моя тюремная карьера. Получил пять лет в ташкентском лагере для несовершеннолетних. С тех пор и мотаюсь по всем зонам. Сидишь в камере, 20 минут поделал зарядку, потом валяешься голодный на холодном бетоне. Я от этого начал болеть. Мы, бомжи, находимся на наших точках по 24 часа. Всегда боимся, что сейчас огребем от ментов. Идти нам некуда. Я тебе это рассказываю от имени советских бездомных, пожизненно наказанных. У нас нет прав, нет разрешений на жительство, ничего нет. Когда выходишь из тюрьмы, совсем тяжело. Ты как третьесортный человек, никому не нужен».
Иногда Алик переставал говорить и напевал песню Высоцкого о человеке, который садится в тюрьму и никогда больше не увидит свою любимую. Затем он мог оборвать сам себя и, глядя в никуда, отхлебнуть из новой бутылки.
«Как выйти из этого круга? Я просто не знаю. Ко мне тут приходил один мой кореш — вчера, что ли? — и говорит, что, если я не брошу пить, он мне набьет морду. А я ему говорю: “Сукин ты сын, я не могу бросить. Не могу”.
Я иногда работал — в Узбекистане, но недолго. С начальством не могу ладить. Еще работал на буровой. А в Москве ни дня не проработал. Дай мне 300 рублей в месяц и квартиру — и я буду отлично жить. Но у меня их нету. И куда же мне идти? Может, скажешь?»
В 1989 году о массовой советской нищете, о которой прежде трубили только пламенные западные пропагандисты, стали писать и внутри страны. Даже коммунистические газеты отмечали бытовую разруху. «Комсомольская правда» ругала систему, указывая, что до 1917 года Россия была седьмой в мире по потреблению на душу населения, а теперь стала 77-й — «после Южной Африки, но впереди Румынии». «Если сравнить качество жизни в развитых странах с нашим, — писала газета, — то приходится признать, что с точки зрения цивилизованного, развитого общества подавляющее большинство населения нашей страны живет за чертой бедности».
Люди и сами начинали улавливать связь между своим плачевным положением и несостоятельностью партийного руководства. В уличных разговорах произносимое сквозь зубы слово «мафия» стало объяснением любого недостатка, любой несправедливости. Только иностранец мог бы подумать, что это слово относится исключительно к мелким уголовникам.
Какое-то время официальным порогом бедности был признан ежемесячный доход в 78 рублей. На такую сумму можно было прокормить собаку. Никто, даже само правительство, не воспринимал эту цифру всерьез. Большинство чиновников и ученых как в Москве, так и на Западе считало, что ее следует удвоить. Но в этом случае почти 131 миллион из 285 миллионов советских граждан был бы официально признан бедным. «Мы десятилетиями пытались претворить в жизнь идею всеобщего равенства, — писал в журнале «Молодой коммунист» экономист Анатолий Дерябин. — И чего же мы достигли за все эти годы? Всего 2,3% советских семей можно назвать состоятельными, и из них только 0,7% заработали свой доход честно. Около 11,2% можно отнести к среднему классу, к людям обеспеченным. Остальные — 86,5% — это попросту бедняки. То, что у нас есть, — это равенство в нищете».
Нищета в Советском Союзе была не такой, как в Сомали или Судане: никаких вспухших животов и массового голода, скорее, общее состояние нужды. Самообман и изоляция достигли такого совершенства, что бедность считалась нормой. Но даже и при этом почти никто, за исключением правительственной элиты, не мог закрывать глаза на народные бедствия. «Даже в домах председателей колхозов-миллионеров нет горячей воды», — рассказал мне туркменский хлопкороб. А Иосиф Бродский писал: «Деньги… тут ни при чем, поскольку в тоталитарном государстве доходы граждан не слишком дифференцированы, говоря иначе, все равны в нищете».
Воркутинским шахтерам не хватало мыла, чтобы смыть с лиц уголь; сахалинские матери рожали в съемных комнатах, потому что на острове не было роддома; белорусские крестьяне продавали металлолом и сало, чтобы купить себе обувь. В печать стали проникать цифры, позволявшие почувствовать масштаб проблемы: среднему советскому гражданину, чтобы купить фунт мяса, нужно было в десять раз дольше работать, чем американцу; бурильщики в Тюмени, где запасы нефти больше, чем в Кувейте, жили в бараках и фургонах, хотя температура зимой здесь опускается до минус 40; даже официальные лица признавали, что в СССР живет от полутора до трех миллионов бездомных, что в одном Узбекистане больше миллиона безработных, что детская смертность на 250% выше, чем в большинстве западных стран, и на одном уровне с Панамой.
Кроме того, все товары, которые можно было найти, были отвратительного качества: пластиковая обувь, минеральная вода с сернистым привкусом. Многоквартирные дома грозили обрушением. Убожество повседневности раздражало и глаз, и кожу. Полотенце начинало царапаться после первой стирки, молоко скисало за день, машины ломались немедленно после покупки. Главной причиной пожаров в домах Советского Союза были внезапно взрывающиеся телевизоры. Из-за всего этого люди пребывали в состоянии перманентного стресса.
Переход к гласности означал, что все эти факты придется признавать. Иногда в какой-нибудь газете выходила честная статья, иногда текст был написан со свойственной русским иронией, контрастировавшей с советским пафосом. Выставка достижений народного хозяйства — нечто вроде Эпкот-центра [4] — находилась недалеко от Останкинской телебашни. Много лет здесь демонстрировались достижения советской науки, техники и космонавтики в огромных павильонах, построенных в неогреческом стиле. Над входом на ВДНХ возвышалась гигантская скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница» (выдающиеся груди и бицепсы, выпученные глаза): пришедшие на выставку должны были ощущать себя такими же мускулистыми пролетариями, частью новой, социально и генетически выведенной породы. Зато в эпоху объявленной гласности поскромневшие директора ВДНХ устроили экспозицию под поразительно честным названием «Выставка некачественных товаров».
Вереница посетителей медленно шла вдоль удивительного собрания антидостижений: гнилой капусты, дырявых башмаков, ржавых самоваров, облупленных кастрюль, воланов без перьев, сплющенных рыбных консервов. Гвоздем экспозиции была бутылка минеральной воды, в которой плавал дохлый мышонок. Все это было куплено в окрестных магазинах. «Пора начинать показывать реальность на ВДНХ», — сказал мне один из экскурсоводов. Выставка стала беспощадным, издевательским переосмыслением социалистического реализма. В разделе одежды красные стрелки указывали на неровные рукава, вылинявшую краску, трещины в подошвах. На этикетке одного ювелирного украшения было прямо написано: «чудовищное». Никто с этим не спорил.
«Я вам открою секрет, — сказал мне транспортник Александр Клебко, когда мы проходили мимо гнилых фруктов. — Это не так уж плохо. Я видал и похуже. В большинстве магазинов такого изобилия нет. А то и вообще ничего нет».
Перевод с английского Льва Оборина
Дэвид Ремник. Могила Ленина. Последние дни советской империи. Пер. с англ. Л. Оборина. — М.: Издательство АСТ : CORPUS, 2017. 624 с.
[1] Ныне Сергиев Посад.
[2] Выражение «Верхняя Вольта с ракетами» часто приписывается другим авторам — например, канцлеру ФРГ Гельмуту Шмидту и премьер-министру Великобритании Маргарет Тэтчер. Верхняя Вольта — название государства Буркина-Фасо до 1984 года.
[3] Эдмунд Уилсон (1895—1972) — американский литературный критик, приезжал в СССР в 1930-е годы.
[4] Эпкот-центр — один из тематических парков Всемирного центра отдыха Уолта Диснея (часть Walt Disney World), в том числе посвященный общественному устройству и технологиям будущего; первоначально задумывался как «идеальный город».
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиМаленький путеводитель по самому необходимому для вашего спокойствия и продуктивности — от новых цифровых сервисов до практик XIX века
26 декабря 202238211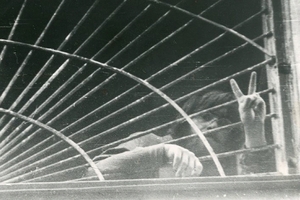 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиРазговор о полезных уроках советского диссидентства, о конфликте между этикой убеждения и этикой ответственности и о том, почему нельзя относиться к людям, поддерживающим СВО, как к роботам или зомби
14 декабря 202254426 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиИзвестный социолог об огромном репертуаре неформальных практик в России (от системы взяток до соседской взаимопомощи), о коллективной реакции на кризисные времена и о том, почему даже в самых этически опасных зонах можно обнаружить здравый смысл и пользу
5 декабря 202235639 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиЧто становится базой для массового протеста? В чем его стартовые условия? Какие предрассудки и ошибки ему угрожают? Нужна ли протесту децентрализация? И как оценивать его успешность?
1 декабря 202282091 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиСможет ли Web 3.0 справиться с освобождением мировой сети из-под власти больших платформ? Что при этом приобретается, что теряется и вообще — так ли уж революционна эта реформа? С известным теоретиком медиа поговорил Митя Лебедев
29 ноября 202248582 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиГоризонтальные сообщества в военное время — между разрывами, изоляцией, потерей почвы и обретением почвы. Разговор двух представительниц культурных инициатив — покинувшей Россию Елены Ищенко и оставшейся в России активистки, которая говорит на условиях анонимности
4 ноября 202236444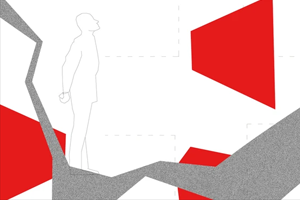 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонтали Вокруг горизонтали
Вокруг горизонтали