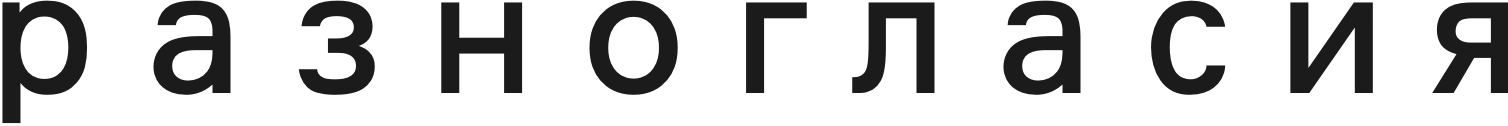Реакционный дух времени. Разговор о консерватизме
Андрей Олейников и Илья Будрайтскис о том, есть ли у консерватизма единая история, почему он привлекает российских чиновников и чем может радовать левых сегодняшний консервативный поворот

Консерватизм как идеология?
Илья Будрайтскис, историк: «Консерватизм» представляется сегодня наиболее актуальным политическим понятием. Все говорят о «консервативном повороте» как глобальном тренде, который в разных формах проявляется в России, США, Восточной и Западной Европе. И этот консервативный поворот, несмотря на специфические особенности его отдельных вариантов, отсылает к общим исторически воспроизводимым и очень узнаваемым идеологическим фигурам. Мы явно видим единство стиля, хотя не видим единства наследия. Поэтому, рассуждая об этом консервативном повороте, можно задаться вопросом: насколько он является индоктринированным, то есть в какой степени некая идеология или консервативная идея захватывает сегодня политические элиты? Какое значение эта идеология имеет для их массовой поддержки? Или же мы сталкиваемся, в первую очередь, с социальными сдвигами, которые далее обретают, отчасти стихийно, формы консервативной политики? И насколько тогда вообще правомерно говорить о консерватизме как политической доктрине? Есть ли у консерватизма как у идеологии своя собственная история?
Андрей Олейников, философ: Вопрос определения теоретических основ того настроения или мировоззрения, которое мы называем консерватизмом, довольно сложен. Сложен потому, что мы часто именуем существующие сейчас доктрины «консервативными» ввиду их поверхностного сходства с тем, что мы знали ранее о консерватизме как о некотором исторически сложившемся комплексе убеждений. Можно продолжать такую линию мысли, вполне узаконенную многочисленными учебниками по истории политической философии, и говорить о том, что консерватизм — это некоторая «идеология», которая берет свое начало с 90-х годов XVIII века и возникает как реакция на Французскую революцию. И для этого есть свои основания. Но если мы будем двигаться не от истории идей, а от того, как сами мыслители, считавшие и считающие себя консерваторами, понимают собственное мировоззрение, то мы легко можем обнаружить, что они не склонны определять его в терминах идеологии.
Если вспомнить про Майкла Оукшотта, вполне респектабельного, ничуть не одиозного британского философа, на которого любят ссылаться и левые, и правые, то он в своей известной работе «On being conservative» (1956) говорит, что консерватизм — это нисколько не идеология, а, скорее, особое состояние сознания, которое предполагает, что люди, наделенные им, не хотят предпринимать резких шагов, когда осознают неизбежность серьезных социальных или политических изменений. Они дорожат своим настоящим, они знают, что лучшее — враг хорошего, они очень осторожны. Им есть что терять, и они умеют ценить то, что у них пока есть. Так рассуждает Оукшотт, и если мы будем двигаться в заданном им направлении, мы вынуждены будем признать, что консерватизм в таком виде представляет собой не идеологию, а специфическое прагматическое сознание.
Консервативный поворот, с которым мы сегодня имеем дело, возникает в условиях вакуума сильных идей и политических проектов с либеральной и левой сторон.
Однако такая линия рассуждений имеет свои ограничения, поскольку консерватор, будучи политиком, должен все-таки предлагать шаги, направленные на сохранение того порядка, который ему так дорог. И здесь очень уместно выражение из романа «Леопард» Джузеппе Томази ди Лампедузы, экранизированного в свое время Висконти, которое звучит примерно так: «Чтобы сохранить все как есть, не нужно бояться все поменять». То есть консерватор не должен бояться радикальных политических изменений, когда дело касается предотвращения пресловутой либеральной или левой угрозы.
Если все же говорить про представление о консерватизме как об идеологии со своей историей, то эта история начинается с Эдмунда Бёрка в Англии, подхватывается Жозефом де Местром и Луи Бональдом во Франции, развивается потом на немецкой почве, где переплетается с романтизмом и исторической школой права, далее в XX веке перекочевывает в США, где с 1950-х годов получает интересное развитие благодаря рецепции идей Бёрка. Кроме того, я еще ничего не сказал о немецкой «консервативной революции» 1920-х годов, американском «неоконсерватизме» рубежа XX—XXI веков. Новейшее и сегодня ярко заявившее о себе в США «палеоконсервативное» движение тоже может быть вписано в эту историю. Но все это, надо сказать, очень разные консерватизмы внутри одной большой условно консервативной парадигмы. Для нас останется проблемой связь отдельных очагов, исторических анклавов консерватизма, и тут требуется серьезная, большая теория, которая могла бы их всех вместе связать.
В принципе, мы можем поступить так, как предлагает делать Кори Робин в своей известной книге «Реакционный дух». Он говорит о том, что всякое консервативное движение имплицитно или потенциально реакционно. То есть всякий консерватизм представляет собой реакцию на левую идею, в данном случае без уточнения — относится ли она к Просвещению или к более поздним социалистическим теориям. Мне думается, что такой способ найти стержень, связывающий все эти консерватизмы, вполне оправдан. Другое дело, насколько он помогает или не помогает объяснить успех консерватизма, который мы наблюдаем сегодня. Я имею в виду консерватизм в его популистском изводе, проповедуемый у нас в России и в США. Насколько его можно продолжать рассматривать как вариант такой классической реакции по Робину? Я в этом сомневаюсь, потому что тот популистский консервативный поворот, с которым мы сегодня имеем дело, на мой взгляд, не является реакцией на какое-либо сильное предложение со стороны левых или либералов, а, скорее, наоборот, возникает в условиях вакуума сильных идей и политических проектов с их стороны.

Консерватизм и чувство истории
Будрайтскис: Следует отметить особенность англосаксонской версии консерватизма в духе Бёрка или Оукшотта — умеренной, прагматической и склонной принимать обличье здравого смысла в тех ситуациях, когда она уже вписана в определенный общественно-политический консенсус. Философия Бёрка — это, прежде всего, попытка защиты от радикальных, ниспровергающих революционных движений, влияние которых в 1790-е годы ощущались в Англии. Этот консерватизм мыслится как необходимый элемент равновесия, в котором умеренное предложение нового должно органично дополняться умеренным инстинктом к сохранению старого. В английской политической системе координат Бёрк был вигом, поддерживал права американских колоний и так далее.
И такой консерватизм Бёрка, конечно, сильно отличается от консерватизма француза де Местра. Идеи де Местра имеют принципиально иной характер, потому что он появляется как меланхолическая реакция после уже свершившейся катастрофы революции, которой можно противопоставить лишь контрреволюцию. И де Местр прямо отождествляет свой консерватизм с наступательной контрреволюционной энергией.
Геббельс написал в своем дневнике после прихода нацистов к власти: «Сегодня мы навсегда вычеркиваем 1789 год из истории».
Другое дело, что такая позиция де Местра не сводится для него к волюнтаристскому действию, направленному на простое обнуление результатов совершившейся революции. Контрреволюция для него является порождением и продолжением процессов, открытых революцией. Если революция была темной стороной божественного Провидения, то контрреволюция станет стороной светлой. И в таком варианте консерватизм приобретает довольно радикальные черты.
Этот радикальный момент необходимо учитывать как принципиальное качество консервативной критики после поворота к модерну, к демократии и к секулярному обществу, который открывается в Европе Французской революцией. Можно вспомнить о знаменитой фразе, написанной Геббельсом в своем дневнике после прихода нацистов к власти: «Сегодня мы навсегда вычеркиваем 1789 год из истории». Победа нацистов им осознавалась как историческая победа реакции над силами демократии. Глубокий скепсис в отношении демократии является важным элементом консерватизма в самом широком смысле.
Исторически консерватизм появляется как ностальгическое обращение к некоему подлинному порядку вещей, который утрачен навсегда, но тем не менее нуждается в восстановлении. И когда мы смотрим на сегодняшний агрессивный консервативный поворот, то, возможно, видим это подлинное, конфликтное лицо консерватизма, которое открывается в моменты коллапса устойчивых представлений о балансе сил. Консервативным ответом на кризис становится тоска по утерянному подлинному порядку вещей.
Палач — фигура, находящаяся по ту сторону морали и потому центральная для поддержания морального порядка.
В этом смысле консерватизм всегда пессимистичен, возвращение к «золотому веку» для него никогда не становится подобием «реальной утопии». Этот пессимизм удивительным образом приходит в соответствие с массово распространенной жизненной философией, основанной на идее отсутствия иллюзий и печальном цинизме. И это именно то, что мы сегодня наблюдаем, — когда явно выдержанные в консервативной стилистике призывы к восстановлению общественной нравственности сочетаются с пессимистическим взглядом на человеческую природу, неизменно греховную и требующую внешней дисциплины. То есть цинизм и консерватизм вполне органично сочетаются друг с другом, как мы видим, например, в случае Трампа или Путина.
Подобная линия восходит, кстати, к знаменитому рассуждению де Местра о палаче — фигуре, находящейся по ту сторону морали и потому центральной для поддержания морального порядка. Само наличие палача постоянно отсылает нас к признанию неизменной порочности человека, к принятию ее как горькой тайны земной юдоли. Намек на эту тайну — неотъемлемая черта консерватизма вот уже более 200 лет.
Олейников: Тут явный парадокс между, с одной стороны, желанием уберечь, сохранить некоторое состояние, осознаваемое как наиболее комфортное, а с другой стороны, признанием того, что это восстановление обращает нас к определенным сторонам натуры человека, которые не поддаются улучшению. То есть консерватизму приходится признать заведенный порядок вещей, натурализовать действующую модель неравенства, например, как данную Провидением.
Сегодняшний консерватизм лишен того исторического чутья, которым был наделен консерватизм классический.
И да, различные мыслители по-разному ранжируют, расцвечивают это парадоксальное состояние дел. Если мы будем читать Оукшотта, мы заметим, с какой любовью говорит он о том исходном порядке, который люди сами в состоянии поддерживать и в который не должно вмешиваться государство. В то время как де Местр потребует для поддержания порядка решительных шагов, какие совершали якобинцы, к которым он относится с большим уважением за то, что те не боялись кровавых эксцессов.
Но если говорить о нынешнем консервативном повороте, в нем я не вижу того, о чем вы говорите, — меланхолического понимания невозможности восстановить «золотой век». Мне думается, что сегодня консерваторы готовы идти столь далеко, сколь потребуется. Иными словами, сегодняшний «палеоконсерватизм» — это, безусловно, антимодернистская идеология. В то время как даже Бёрк и де Местр, не говоря уже об Оукшотте, — носители так или иначе модернистского сознания, способные признавать определенные исторические изменения, которые уже невозможно обратить вспять.
Поэтому мне кажется, что сегодняшний консерватизм (условно говоря, «палеоконсерватизм») лишен того исторического чутья, которым был наделен консерватизм классический. Чувство истории как чувство органической преемственности между прошлым и настоящим, осознаваемой через их различие, у консерваторов было очень развито. Многие современные политические теоретики совершенно прямо говорят о том, что мы обязаны сегодняшним развитым историческим сознанием в первую очередь консервативным мыслителям, тому же Бёрку. В то время как у нынешних «палеоконсерваторов» этого исторического сознания нет и в помине. Происходит безумное конструирование «традиционных ценностей», но это конструирование скандально антиисторично и потому невероятно опасно.
Будрайтскис: Мне кажется, для консерватизма важно утверждение исторической органичности общества, которое, кстати, практически всегда равняется государству, потому что для консерваторов нет границы между социальным и государственным…
Разделение общества и государства считается гибельным: в его основе — попытка дешифровать общество, за которой скрывается опасность революции.
Олейников: Ну, для англичан, например, все-таки есть.
Будрайтскис: Для англичан есть, но, например, для французских, немецких или для русских консерваторов этой границы чаще всего нет, и разделение общества и государства считается ими искусственным и гибельным. Потому что в основе такого разделения всегда лежит попытка дешифровки, попытка понять и рационализировать общество, и именно в такой дешифровке скрывается революционная опасность, главный механизм разрушения. Для консерваторов важно — и на этом основана консервативная апология неравенства, — что в текущем распределении ролей между управляющими и управляемыми должна оставаться некая тайна, оберегаемая от рационализации либерального или социалистического толка. С этой точки зрения консерватизм обладает чрезвычайной гибкостью и силой инклюзивности. То есть когда некие необратимые изменения в обществе уже произошли, то результат этих изменений для консерватизма также становится частью органики, которая не должна подвергаться дешифровке, рационализации, разложению и так далее.
Можно взять в качестве примера трансформацию гимна Российской Федерации: в своей первоначальной сталинистской или постсталинистской версии он носил прогрессистский характер, идею устремленности в некое светлое будущее, которое еще предстоит всем вместе построить, тогда как актуальный его вариант завершается словами «так было, так есть, и так будет всегда». Весь его предшествующий текст является чисто описательным: есть огромная территория, есть люди, которые ее населяют, есть государство, которое скрепляет их вместе. И не пытайтесь это понять, примите это просто как данность, потому что любая попытка понимания тождественна разрушению.
К середине XX века свободный рынок окончательно получает легитимный статус консервативной тайны.
Это позволяет говорить о консерватизме как о некоем стиле, который адаптируется разными социальными группами, у него могут быть разные носители, но он сохраняет свою основную ноту, придающую ему определенный тип постоянства. Например, в современной России сталинизм довольно легко может быть вписан в консервативную парадигму. Точно так же, как когда-то отношения свободного рынка изначально отвергались консерваторами как разрушающие органическое единство общества (здесь можно вспомнить, например, знаменитый текст Дизраэли о «двух нациях»), но к середине XX века свободный рынок окончательно получает легитимный статус консервативной тайны, которая не должна быть дешифрована левыми разрушителями.
Олейников: Да, это очень важно. Немедленное консервативное затемнение, придание завесы тайны тому, что представляет большую ценность.
Будрайтскис: Можно, кстати, вспомнить суждения де Местра в его письмах петербургского периода, где он настоятельно рекомендовал царскому правительству радикально ограничить распространение университетского образования. Он доходчиво объяснял: чем больше у вас будет образованных людей, тем больше вопросов будет к самому факту существования самодержавной власти в России, и в итоге ваш университет произведет «образованного Пугачева», который все это разрушит. Когда мы читаем сегодня эти строки де Местра, они нам кажутся чрезвычайно глубокими и провидческими: он со своей консервативной точки зрения смог описать ту перспективу, которая стала исторической реальностью.
Олейников: Сейчас Жириновский говорит примерно то же самое.
Де Местр объяснял царскому правительству: ваш университет произведет «образованного Пугачева», который все это разрушит.
Будрайтскис: Интересна историческая изменчивость консерватизма, его социальная подвижность: много раз описано, что изначально консерватизм был уделом аристократов, затем стал органичным для высших слоев аристократизирующейся буржуазии, затем для средних и низших... То есть у консерватизма есть удивительная способность отрываться от своих социальных корней, обнаруживая, в конечном счете, их вторичность и условность по отношению к самому содержанию.
Олейников: Да, и классический консерватизм, с которого мы начали разговор, — это, конечно, консерватизм аристократический. Но какой сегодня социальный слой может выступать агентом консервативного сознания?.. Можно, конечно, вспомнить людей, которые оказали поддержку Трампу, т.н. реднеков (redneck), условных работяг из глубинки. Но им это консервативное сознание, скорее, вменяется, нежели они его сами генерируют. И это приписывание, кстати, — интересный предмет для отдельного разговора.

Консервативный разум бюрократии
Олейников: Задаваясь вопросом о жизненном мире нынешнего консерватора, мне легче всего указать на бюрократа как на фигуру, которая более других востребует консервативную ментальность. Особенно это касается российского управленца, причем управленца не в первом поколении. Люди, вошедшие в первый номенклатурный эшелон еще при советской власти, с легкостью воспринимают себя сегодня носителями «традиционных ценностей». И для них необходимо связать воедино то, что критическое сознание просто отказывается связывать, — например, православие и сталинизм. Для них это дело выживания, поэтому они проповедуют миф о великой России, которая «была, есть и будет всегда» одной и той же.
Пожалуй, сегодня консервативным сознанием наделены в первую очередь люди, которые продолжают стоять на таких «государственнических» позициях. В последнее время параллельно с обсуждением консервативного поворота идут разговоры о том, что на наших глазах происходит возвращение государства, которое, казалось, уже начало сходить с большой сцены во время неолиберальных реформ с началом глобализации. Государство заявляет о себе путем выхода из больших международных институтов (например, Brexit'а) или педалирования ценности суверенитета, о которой говорят сегодня везде: и Тереза Мэй в Великобритании, и Трамп в США, и Марин Ле Пен во Франции, а у нас про этот суверенитет еще раньше начали твердить. И, возможно, именно Томас Гоббс с его «Левиафаном» может оказаться той фигурой, которая в большей степени, чем даже Бёрк, близка нынешним консерваторам. Я думаю, что в этом смысле прав Робин, когда начинает свой обзор с Гоббса как своего рода протоконсерватора.
Люди, вошедшие в первый номенклатурный эшелон еще при советской власти, с легкостью воспринимают себя сегодня носителями «традиционных ценностей».
Будрайтскис: Гоббс сейчас может приниматься консерваторами в качестве теоретика, который также придерживался пессимистического взгляда на человеческую природу и исходя из этого выстраивал свою политическую концепцию. Однако с точки зрения рационализации государства, описания его как некоей машины, как «искусственного человека» (за что Гоббса атаковал, например, Карл Шмитт), подход Гоббса не является консервативным. Гоббс как раз совершает секуляризацию государства, лишает его власти тайны, которая так важна для консерваторов.
Ваши рассуждения о бюрократии как носителе консервативного мышления очень интересны. Вспоминая Макса Вебера, можно сказать, что в основе бюрократического мышления лежит, с одной стороны, рациональность в смысле точного исполнения поступающих сверху распоряжений, с другой— иррациональность в отношении того, как устроен механизм принятия политических решений. Поэтому, как мне кажется, для сформированного бюрократической культурой «государственника» чрезвычайно привлекательной является идея «разума государства» — того, что лежит за пределами конкретного человеческого сознания, но восстанавливает единство государства вопреки разрушительным намерениям конкретных политических акторов.
Тут интересно то консервативное отношение к русской революции, которое сегодня слышится в рассуждениях наших бюрократов высшего звена. Если доводить их логику до конца, революция должна быть принята именно в силу того, что вопреки деструктивным намерениям своих творцов и лидеров она все равно воссоздала формы исторического русского государства, поднявшегося из пепла подобно птице Феникс.
Необходимость связать воедино православие и сталинизм.
Можно провести здесь параллель со взглядом Токвиля на Французскую революцию (который, конечно, не обращался к мистическим категориям). Согласно Токвилю, французское государство восстановило, укрепило и реализовало себя через некий внутренний государственный разум. В русской консервативной мысли XX века эта линия представлена теоретиком «сменовеховцев» Николаем Устряловым, который поддержал Советскую Россию именно в надежде на то, что «разум государства» вне зависимости от амбиций большевиков воссоздаст исторические государственные формы.
Сегодняшний консерватизм российского бюрократа рассчитывает на этот разум государства уже вне зависимости от операций своего собственного разума. Бюрократы не знают, куда они плывут, что они делают, но у них есть твердое ощущение того, что через них государство себя обновляет, защищает, укрепляет и устанавливает свое величие.
Олейников: Совершенно согласен. Но вы считаете, что Гоббс все-таки не годится на роль основателя этой традиции, потому что слишком его подход механистичен?
Будрайтскис: «Левиафан» писался в том числе как обучающая книга о том, как рядовые граждане должны понимать свое место, свои отношения с государством, смысл государств и смысл подчинения законам. Консервативная линия состоит как раз в том, чтобы отбить у большинства охоту к такого рода размышлениям. Конечно, можно у Гоббса вычитать консервативные моменты — например, пессимизм по отношению к человеку в его трактовке естественного состояния, трактовке антипросвещенческой, входящей в противоречие с идеей естественных прав. Но даже в этих моментах Гоббс остается на безусловно материалистических и рациональных позициях. И ту работу по дешифровке монархического принципа, которую он проводит в «Левиафане», очень сложно считать аргументом в пользу консерватизма.
Российские бюрократы не знают, куда они плывут, но у них есть твердое ощущение того, что через них государство себя обновляет, защищает, укрепляет.
Олейников: Я не буду настаивать на этом аргументе, хотя, мне кажется, в пользу консервативной трактовки Гоббса работает то, что он предписывает гражданам заниматься исключительно своими приватными делами. Это то, что воспевает Оукшотт в XX веке: радость от обладания своим собственным миром. Здесь важно различие между волеизъявлением и свободой от чьего-либо вмешательства извне. Ты свое волеизъявление отдаешь суверену, а в обмен получаешь внутреннюю свободу и наслаждаешься ею в полный рост.
Будрайтскис: Такое понимание — это, скорее, британский либерально-консервативный принцип. Мне кажется, о нем вы говорили, размышляя о связи консерватизма и историзма через линию Иоганна Гердера и Юстуса Мезера — мыслителей, которые отстаивали уникальность и несводимость к общему рациональному принципу.
Олейников: Или, как де Местр говорил, «нет человечества, а есть русские, французы, англичане…» — и так далее. Здесь неизбежно всплывает такой квазиаристократический, квазифеодальный субстрат, антиуниверсалистский в любом случае. У Гоббса, конечно, такого мы совершенно не видим.
Будрайтскис: Да, например, если из Гоббса можно прямо вывести принцип юридического равенства, антиаристократический по своей сути, то, скажем, Джон Локк, несмотря на его традиционное прочтение как отца либерализма, может быть с большими основаниями интерпретирован в консервативном ключе.
Олейников: Конечно. Недаром он признается главным теоретиком английской Славной революции, которая является уникальной в своем роде либерально-консервативной революцией.

Консерваторы и левые
Будрайтскис: Давайте обратимся теперь к важному вопросу о левых и консерваторах, о героическом консервативном подходе, который развивал Славой Жижек. Вспомним текст Вальтера Беньямина «О понятии истории» — образ руин, на которые смотрит ангел, гонимый спиной вперед вихрем истории. Этот образ может быть понят и в консервативном ключе. Сам образ руин для консервативного сознания является чрезвычайно важным. Сразу вспоминается известный рассказ Шарля Морраса о том, как он пришел к своим консервативным убеждениям: он впервые посетил Афины, увидел развалины Парфенона и задумался о том, как это сложное и величественное здание, которое потрясало человеческое воображение на протяжении тысячелетий, могло быть разрушено при помощи трех тупых бомб. Вид этих развалин напомнил Моррасу великое здание французской монархии, также разрушенной тремя тупыми бомбами, — с явным намеком на то, что три тупые бомбы — это свобода, равенство и братство.
Насколько и в основе левого, если исходить из марксистской традиции, и в основе консервативного подхода лежит представление, во-первых, о разрушенной целостности общества и, во-вторых, о глубоком скепсисе в отношении Просвещения и капиталистической рациональности? Ведь критика Просвещения была ключевой для многих важных левых мыслителей XX века — Беньямина, Теодора Адорно...
Три тупые бомбы — это свобода, равенство и братство.
Олейников: Мне думается, что если левых и консерваторов что-то объединяет — подчеркну, что имею здесь в виду преимущественно консерваторов классического образца с развитым историческим сознанием, — то это некий воинственный дух. Мишель Фуко исследовал его в свое время, когда в Коллеж де Франс читал курс лекций «Нужно защищать общество». В нем он показал, что марксистский дискурс классовой борьбы и аристократический дискурс монархомахов генетически связаны между собой. Первый восходит ко второму. Для Беньямина история — это тоже борьба: «борьба за вещи грубые и материальные, без которых не бывает вещей утонченных и духовных». Свое вдохновение он черпает именно в состоявшихся актах этой борьбы. Они закончились поражением, но тем не менее его ангел, продолжая свой полет, неотрывно смотрит на них. Иными словами, левые не меньше, чем консерваторы, любят прошлое, и им тоже есть что терять. Но это не настоящее, которым только и могут дорожить консерваторы, а память о начавшейся в прошлом борьбе. В своем отношении к истории левые — более последовательные, более радикальные консерваторы, чем те, кто любит себя сегодня так называть. Полагаю, как раз это имел в виду Жижек, когда в своем разговоре с нами, состоявшемся десять лет тому назад, говорил, что только левые способны сегодня «открыть героический консервативный подход». Для левых прошлое никогда не завершается в настоящем, никогда не уходит навсегда. В некотором смысле оно даже бежит впереди настоящего, не давая нам примириться с ним.
Будрайтскис: В знаменитом тексте Маркса «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» есть фраза о том, что люди сами делают свою историю, но не так, как они хотели бы, а в тех обстоятельствах, которые им перешли от прошлого. То есть часто усилия людей и их желание делать свою историю обречены на трагическое поражение, но результатом этого поражения становится некое движение вперед, движение, искупающее, грубо говоря, жертвы предыдущих поколений. Но вывод, который Маркс делает в «Восемнадцатом брюмера», состоит в том, что этому реакционному, консервативному исходу революции 1848 года нужно не то что радоваться, но принять его как историческую необходимость, в которой реализует себя политический принцип, предопределенный предшествующей историей. И это для Маркса парадоксальным образом дает основания для надежды.
С либеральной точки зрения ничего, кроме печали и тревоги, происходящие политические изменения не вызывают.
Можно ли, например, этот подход сравнить с сегодняшней ситуацией, когда в консервативном повороте находят свое осуществление прежние политические и общественные формы? Эти формы доходят до своего предела, до своего тупика, и в этом смысле консервативный поворот является знаком кризиса, обреченности существующего положения вещей. С либеральной точки зрения, конечно, ничего, кроме печали и тревоги, происходящие политические изменения не вызывают. Эти либеральные реакции присутствуют в двух вариантах: либо как надежды на то, что все это — свидетельства временного помешательства и все вскоре опять вернется к нормальности, либо как пессимистическая констатация, что мир серьезно сошел с ума и нам предстоит темная эпоха.
Однако с марксистской точки зрения вообще нет предположения, что мир был, например, здоров и нормален 20 лет назад, а сейчас переживает период внутреннего нездоровья. Для Вальтера Беньямина, скажем, современный мир в целом «сошел с ума», он движется по направлению к катастрофе, и разные стадии этого движения лишь знаменуют разные пункты в одном направлении. Поэтому, если ставить вопрос, как относиться к этому консервативному повороту с левой перспективы, то речь идет не о том, чтобы этот поворот принять с удовлетворением, но о том, чтобы признать за ним ту внутреннюю правду, которую, например, де Местр мог признать за Французской революцией — конечно, без всяких симпатий в ее отношении. Точно так же, как и у нас не может быть никаких содержательных симпатий к происходящему консервативному повороту.
Для Вальтера Беньямина современный мир в целом «сошел с ума».
Олейников: Я вновь вспомню борьбу, о которой говорил выше. Мне думается, что преимущество сегодняшнего консервативного поворота в сравнении хотя бы с тем временем, когда Жижек впервые приехал в Москву и когда мы вели с ним ту беседу, состоит в том, что сегодня обнажилась некоторая правда, и это очень здорово. То есть сегодня никто не может сохранить тот лицемерный порядок, который до недавнего времени поддерживался правящими элитами в Англии, США, России. Обнажается правда, вещи начинают представать в своем подлинном свете. Правые популисты при этом заявляют о какой-то своей правде, за которую они готовы бороться, менять мировой порядок, заново строить свои государства. Трамп всерьез берется за дело, начинает воевать со СМИ, как Путин в свое время, когда впервые пришел к власти.
Поэтому мы как люди левых взглядов должны относиться к происходящим процессам как требующим нашего непосредственного участия. Я думаю, Беньямин мог иметь в виду что-то похожее, когда писал свой текст «О понятии истории». Ведь он создавался, когда СССР подписал пакт о ненападении с нацистской Германией и надежды на поступательное развитие нашей страны, этой «надежды всего прогрессивного человечества», исчезли. И поэтому левым нужно было осознать эту новую ситуацию и что-то понимать и делать заново. Мы можем только фантазировать, что конкретно имел в виду Беньямин, поскольку это был последний философский текст, который он написал в своей жизни, но в любом случае речь должна идти о мобилизации. Самым понятным результатом этой современной политической констелляции может быть только мобилизация, поиски новых средств борьбы. И тот же Жижек примерно об этом и говорит в одном из интервью, данных сразу после президентских выборов в США: он, скорее, приветствует то, что там произошло.