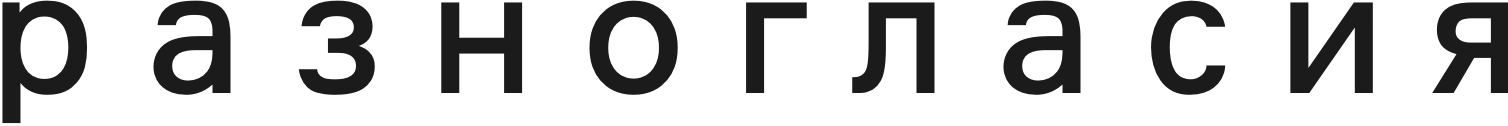Мощь анонимности
Философ Елена Петровская об искусстве, художнике и эстетике в современном мире

Начну с того, что никакой непрерывности в истории искусства нет. Это задним числом мы пытаемся соединить все и вся, установить цепочки влияний, выстроить генеалогии. Между тем есть основания считать, что то, что произошло с культурой и искусством в ХХ веке, имеет характер разрыва, причем со всей предшествующей традицией. Именно поэтому появляются рассуждения о том, что закончилась эпоха больших повествований, в том числе самой истории искусства, что искусство хотя по-прежнему и делается, но уже без притязаний на какую-либо истину (такие идеи находим у Артура Данто). Однако в силу разных причин ни художники, ни критики не готовы мириться с этим разрывом. Можно также утверждать, что иллюзию непрерывности художественного процесса поддерживают и художественные институции. Словом, настаивать на том, что сегодня сами слова «художник» и «искусство» не очень подходят для описания сложившейся ситуации, похоже, не хочет никто. Между тем и искусство — это уже не мастерская по возгонке прекрасного, и художник — уже не «мастер», «творец».
Что же такое случилось, что искусство больше не существует в режиме истины и оригинальности, что для его оценки (если мы говорим о современном искусстве) нужно использовать совсем другие категории? Сегодня нас объединяют экономика и логика глобального мира (даже если отдельные страны делают отчаянные попытки провозгласить свою особенность и отделенность). Эта логика давала о себе знать в той или иной степени и раньше, начиная с эпохи промышленной современности, то есть примерно с первой трети XIX века. Речь не только о революции в самой промышленности, поддержанной развитием науки; это приход тех самых средств репродуцирования — в широком смысле аппаратов, — без которых мы не мыслим свое существование сегодня. Это и зарождение масс, по-настоящему массового общества. Соединение этих факторов приводит к такому явлению, как демократизация, в том числе и в сфере самого искусства. XIX век — время зарождения фотографии и буржуазной публики, время появления первых технологических зрелищ, предназначенных для массового потребления.
Художник сегодня — акционист, причем в самом широком смысле этого слова.
В этот период все происходит стремительно. Конец столетия — это экспериментация в области отдельных выразительных языков, включая только что изобретенные (уже в 1880-е начинается стилизация фотографии под эстетику дагеротипных снимков). Исследуются границы романа, поэзии, живописи — но исследуются средствами самих же названных искусств. Эдуар Мане наглядно демонстрирует конвенциональный характер живописи, а именно то, что это есть иллюзия трехмерности, создаваемая на двухмерной поверхности, иначе говоря — на плоскости картины. Он делает это, подчеркивая прямоугольную, плоскую форму холста серией горизонталей и вертикалей внутри самого изображения, устранением глубины, привычной для классической живописи, и т.п. Художник направляет взгляд зрителя не столько к изображаемому им предмету, сколько к средствам изображения и мере их условности — хотя и сам предмет может вызывать не только недоумение, но даже шумный скандал (вспомним устремленный на зрителя взгляд Олимпии из городских низов).
Не так долго придется ждать авангарда и его расставания с формой. Беспредметное искусство, однако, осложнено тем, что живописные элементы (именно элементы, а не формы!) продолжают отсылать к потустороннему, — и в этом авангард не так далек от практики писания икон. Правда, его «потустороннее» часто освобождено от всякой мистики и связано, скорее, с социальным экспериментом по переустройству здешнего мира: социально-утопическое измерение авангарда невозможно игнорировать. Даже если художники не разделяли политических взглядов победившей партии большевиков, они не могли не ощущать (по крайней мере, на первых порах) потенциала и масштаба преобразований, частью которых было само их искусство. Предстояло постичь еще одну истину — на сей раз обновленного миропорядка. Но ХХ век — это век беспрецедентных войн. Такова обратная сторона прогресса. И некоторые художественные течения с восторгом воспевали разрушительную мощь новейших средств ведения войны, находя в них небывалую эстетику. Эстетика строительства нового уклада, эстетика высокотехнологичной войны — несмотря на все кричащие различия, и тут, и там шаблон искусства примерялся к жизни. Жизнь «дооформлялась» ее соответствием эстетическим критериям и нормам.
 Pussy Riot на Лобном месте, 20 января 2012 г.© Денис Бочкарев
Pussy Riot на Лобном месте, 20 января 2012 г.© Денис БочкаревВторая мировая война имела серьезные последствия для всего развития культуры. После нее угасает вера в безграничные возможности человека, вера в поступательность, прогресс. Именно под воздействием этого катастрофического опыта в разных видах искусства происходит отказ от изобразительности как таковой. Это затрагивает и оплот последнего сопротивления, а именно поэзию. Конечно, и раньше форма ставилась под вопрос, но теперь — в свете пережитой коллективной травмы — любые виды украшательства теряют право на существование. А это, собственно, то, что и подпадает под определение эстетики. Невозможно больше оценивать поэзию с точки зрения удовольствия, которое она приносит, — это удовольствие исчезло раз и навсегда. Вместе с ним — как его конструктивный двойник — исчезает и вся система поэтики, то есть тропы, метафоры и иные формы «украшений». Поэзия не только «обедняется», она лишается смысловой связности как таковой, поскольку в своих наиболее заостренных формах стремится стать свидетелем — свидетелем того невозможного опыта, который выпал на долю миллионов. А такой свидетель обречен на молчание. Вернее, само его свидетельство зависает на границе языка.
Конечно, мы не можем поставить изобразительное искусство в прямую зависимость от мировых катаклизмов. Искусство довольно долго сохраняло двойственность: с одной стороны, оно могло тематизировать происходящее, то есть фактически повторять то, что было, на уровне сюжета или темы. Однако, с другой, оно продолжало искать формальные средства для выполнения своей задачи. Пикассо, отозвавшийся на Гернику своим знаменитым полотном, по сути дела изобрел для этой картины самостоятельный живописный язык. Он понимал, что его протест — его антивоенное высказывание, сделанное средствами живописи, — не может заимствовать то, что было даже у таких великих мастеров, как Гойя. И все-таки он берет у Гойи один продуктивный урок: нарушение конвенции. Мы знаем, что живопись, в том числе и современная, — это конвенция, или принятый набор выразительных средств. Нарушить конвенцию можно двояко: порвав с живописью как таковой (случай Марселя Дюшана) или же попытавшись внутри живописи изобрести свою собственную микроконвенцию. Иными словами, речь идет о смещении. Смещении привычных практик восприятия, нарушении публичных ожиданий. Вы ждете, что вам покажут батальную сцену или страдания мирных жителей в духе ужасов войны, — вы получаете искалеченную фигуративность. Это не изображение страдания. Это такой способ живописной записи, который нас, зрителей, выводит из себя: мы утрачиваем все привычные ориентиры.
Дать простор множественным голосам, из гула которых возникает и собственный голос художника.
Но у искусства есть свое время. Особенно у искусства изобразительного, каким бы неожиданным оно ни было в момент своего появления. И сегодня «Герника» Пикассо — это не крик о помощи, а еще один шедевр. Конечно, вины Пикассо тут нет и быть не может в принципе. Именно так устроено искусство уже как институт общественный. Этот институт находится в содружестве с музеями, галереями, депозитариями, с критикой, которая его обслуживает. А сегодня он еще теснейшим образом связан и с арт-рынком. Предназначение такого института — употребить, присвоить, поглотить. Все, что когда-то располагалось у границ освоенного и дозволенного, культура поглощает без остатка. Это значит, что нарушение конвенции ретроспективно прочитывается как продолжение традиции. В самом деле, в истории искусства — истории, рассказываемой об искусстве, — никаких разрывов быть не должно. Даже обращенный к будущему авангард и тот оказался вписанным в эту общую историю. На месте экспериментов остаются пыльные площадки. А их мгновенно занимают новые конторы от культуры.
Надо, однако, признать, что произведения, культурная ценность которым приписана задним числом, сохраняют в себе энергию смещения, или сдвига, каковым они по сути и являются. Конечно, сегодня нам труднее судить о произведениях прошлых эпох, потому что наш собственный культурный опыт восприятия сформирован по-другому, и то, что было вызовом зрителю еще в конце XIX века, сегодня скорее составляет часть нормативного — вошедшего в привычку — видения. Особенность сегодняшнего восприятия, раз уж об этом зашел разговор, состоит в том, что оно перестает быть созерцанием. Здесь можно было бы поставить точку. Но это нужно пояснить. Созерцание и есть практика индивидуального распознавания красоты/ценности/смысла, когда объект искусства мыслится как завершенное в себе целое, выражаясь по-другому — как художественный образ. Созерцание вполне соответствует классической схеме познания, предполагающей четкое различение двух неравноправных позиций, а именно субъекта и объекта. Объект искусства, например картина, предстоит субъекту, то есть находится буквально перед ним, но это и способ создания системы представлений, с помощью которых познается мир в целом. Представления суть порождения субъекта, его познавательной активности. Причем «представление» — это в то же время и «изображение», и обособленность, выделенность последнего наглядно показывает, в каких отношениях субъект находится со своими представлениями. Он — «здесь», они — «там»; вернее, он является их источником, он их производит из себя.
 Pussy Riot в храме Христа Спасителя, 21 февраля 2012 г.© Митя Алешковский / ТАСС
Pussy Riot в храме Христа Спасителя, 21 февраля 2012 г.© Митя Алешковский / ТАССВесь мир подчиняется субъекту, поскольку он им управляет с помощью своих же представлений. Изображение, как я уже сказала, — частный случай представления, но только более сложный в том отношении, что смешивает субъективное и объективное и при этом претендует на абсолютную самодостаточность. Произведение искусства — отдельный мир. Такое приходится часто слышать. И тем не менее по-настоящему наделить произведение независимым существованием можно, лишь освободив его от подчинения субъекту. Иными словами, отказавшись от его созерцания. Это уже сделала культура. Подарив нам всем технические средства, она, по сути, установила иной режим восприятия — опять-таки для всех. Место созерцания как индивидуальной практики занимает восприятие как практика, в своей основе коллективная. Это не значит, что мы воспринимаем — должны воспринимать — все вместе. Это значит, что ситуация репродуцирования распорядилась нашим восприятием таким образом, что мы перестали различать единственное, уникальное и вместо этого реагируем на типовое. Даже из уникальных явлений, замечает Беньямин, восприятие «выжимает» однотипное. То есть речь идет не об исчезновении оригинала как некоторой вещи, а только лишь о том, что эта вещь больше не схватывается нашим восприятием. Коллективное восприятие не способно видеть эту «вещь», оно проскальзывает мимо уникального, его «не видит». Зато улавливает типовое. Оно настроено только на шаблон. Шаблон как единица восприятия и есть эффект распространения знакомых всем нам технических средств.
Итак, сегодня восприятие не строится по старой модели. Это существенным образом влияет на роль, место и понимание искусства. Что такое искусство без оригинала? На этот вопрос и отвечают многие художественные практики ХХ столетия. Однако интереснее другое. Ценностная девальвация оригинала, как это ни парадоксально, приводит к тому, что произведение как раз и раскрывается в полной мере со своей экспериментальной стороны. Потому что эксперимент — это не прозрение автора и не подтверждение врожденной гениальности, а то, в чем участвуют силы, к человеку не имеющие отношения. Эксперимент — не лабораторный опыт. Это такой сдвиг в режиме выражения и понимания, который становится возможным благодаря вторжению действующих извне безличных сил. Это встреча с тем, что не имеет для себя готовых дефиниций. Переходы, перепады, трансформации, осуществляющиеся на таких скоростях, которые или значительно медленнее, или значительно быстрее нашего порога восприятия. Ведь не будем забывать, что человеческое — это лишь одно возможное мерило, к тому же ограниченное, которое мы прикладываем к окружающему миру, пытаясь разобраться в многообразии пронизывающих его контактов и взаимодействий.
Художник сегодня невольно берет на себя функции исследователя.
Если говорить проще и короче, произведение искусства интересно не своими эстетическими достоинствами, а как раз наоборот — тем, где и как оно подрывает представления об упорядоченности, красоте, самотождественности. Оно интересно тем, чем оно беспокоит, а не тем, чем вызывает умиление. Это и понятно, поскольку произведение не подтверждает то, что уже и так известно (тут нет и не может быть беспокойства), а сообщает о том, что не соответствует самим условиям человеческой практики познания. Иными словами, что смещает представления, причем в самом что ни на есть буквальном смысле этих слов. Отсюда и то, что я назвала выше (может быть, не слишком удачно) микроконвенцией. Речь идет о разрушении превалирующего языка искусства во имя того, что остается непереводимым. В случае Пикассо это страдания и боль, которые вопреки ограничениям статичного, фронтального изображения он и пытается выразить. Выражение и изображение — не одно и то же. Изображение есть упорядоченный мир, выстроенный по определенным правилам, и в задачу критики, а более широко — эстетики, входит выявление этой внутренней организации. А вот выражение — это скорее неполнота организации, ее сбой, нечто, не подпадающее под действие установленных правил. Выражение — фактически новое правило, которое художник предлагает зрителям. Для того чтобы его понять, требуется переступить за черту того, что можно считать всеобщим достоянием в плане накопленного знания. Вот почему экспериментальное произведение — всегда скандал, всегда вызываемое им возмущение. Но не будем забывать, что слово «возмущение» имеет и чисто физический смысл.
Поговорим немного о судьбе художника. В свете всего сказанного можно утверждать, что испытания, выпадающие на долю художника, не являются величиной постоянной. Понятно, что прежде всего это зависит от того, какую роль играет искусство в ту или иную эпоху, каков его статус в качестве общественного института, если вообще у нас есть основания говорить о таковом. Известно, что обособление искусства и его обмирщение — это долгий процесс, и художник в эпоху Ренессанса — совсем не то же, что современный художник. Как я уже говорила, сегодня лишь с большой натяжкой мы можем употреблять такие слова, как «художник», «произведение искусства». Или с большой ностальгией. Произведение искусства в его традиционном понимании определено на жительство в музей. Музей сегодня — это и есть способ бытования старого искусства. Как и рынок. Замечу, что цена произведений искусства на современном арт-рынке невероятно взвинчена. Это уже не предмет роскоши, но средство капитализации, причем в руках таких крупнейших структур, как хедж-фонды. То есть произведения искусства включены в новые финансовые отношения. В этом смысле они не столько «валюта», «деньги», или инструмент эквивалентного обмена, сколько индикаторы процессов и, по-видимому, скоростей нового финансового мира. По ним можно кое-что узнать о современном состоянии глобальной экономики.
 зАиБи (движение «за Анонимное и Бесплатное искусство»). Акция «Вторжение»
зАиБи (движение «за Анонимное и Бесплатное искусство»). Акция «Вторжение»А в музее произведение имеет все признаки охраняемой культурной ценности. С одной стороны, это должно нас радовать тем, что произведение остается вроде бы доступным. С другой стороны, такое элегантное заключение под стражу есть способ нейтрализации беспокойства, исходящего от каждой экспериментальной работы. Музей отбирает, сортирует, устанавливает связи, придерживается определенных практик экспонирования, то есть отношения «предмет искусства — зритель». Музей навязывает определенный способ взаимоотношений с произведением искусства. В наших музеях по-прежнему превалирует стратегия рассказывания. Вы видите картину, на которой изображены, скажем, библейские персонажи, и, как правило, вы понимаете, что с ними происходит. Тем не менее своей речью экскурсовод будет все это дублировать, накладывая устный рассказ поверх истории, рассказанной — не менее ярко — с помощью красок. И все это встроено в еще больший нарратив, а именно историю искусства, которая представлена наглядно тематическими залами, их соположением друг с другом. Словом, непрерывность и дидактичность охватывают нас со всех сторон. Но разве к этому стремится художник-экспериментатор? Разве он готов уменьшить силу своего сопротивления, возможно, градус персональной драмы во имя общепримиряющего благолепия? В указанном парадоксе, конечно, нет ничего ни сверхъестественного, ни даже по-настоящему нового. Но сегодня, как мне кажется, он особо ощутим — именно сегодня, когда музеи придумывают разные интерактивные стратегии, а проще говоря — способы заманить зрителя на свою территорию. Развлечь его, дать ему понять, что искусство — как и сам музей, его приютивший, — не устаревает. Прикасайтесь, участвуйте, творите вместе с художником — эти призывы должны помочь преодолеть холодок отчуждения, исходящий от музейного пространства.
Итак, о судьбе художника. Художник — тот, кто принадлежит к соответствующему цеху, то есть владеет навыками, связанными с той или иной конкретной разновидностью искусства. Это делатель, изготовитель, причем изготовитель искусный. Он владеет всеми тайнами своего мастерства. Искусство — по определению нечто рукотворное и в этом отношении «искусственное». Как я уже отмечала, XIX век является эпохой переломной, когда под влиянием бурного развития техники и промышленного производства меняется сам общественный уклад. В это время цеховой образ искусства необратимо угасает. Ведь цех — это и набор навыков самих по себе, и способ их передачи новым поколениям умельцев. Более того, это также и элемент социально-экономической организации, которая отмечена неотчуждаемым характером труда. А сегодня (говоря это, мы делаем огромный исторический прыжок) искусство потеряло цеховую принадлежность. Конечно, оно утратило ее гораздо раньше, только сегодня это означает, что оно утратило также специфику своего выразительного языка. Все без исключения искусства утратили эту специфику. Стало быть, говоря об искусстве, мы должны понимать, что, лишившись своего языка, оно одновременно лишилось и своего сущностного определения. Мы не можем больше спрашивать: «Что такое искусство?» Но по инерции мы продолжаем это делать, как и пользоваться самим понятием «искусство».
 зАиБи (движение «за Анонимное и Бесплатное искусство»). «Пингвины». 1991 г.
зАиБи (движение «за Анонимное и Бесплатное искусство»). «Пингвины». 1991 г.Если искусство перестает быть рукотворным, точнее, если определяющей тенденцией его развития становится незрелищность (вспомним, к примеру, о перформансе, акционизме, даже концептуальное искусство подводит нас к такому пониманию), тогда что именно сохраняется — может сохраняться — от искусства? И в чем сегодня миссия художника? Во-первых, как считает Краусс, может сохраняться идея выразительного средства сама по себе. Но тут возникает известное противоречие. Для того чтобы сохранить саму эту идею, современные художники должны отказаться от представления о специфике средств выражения, то есть о специфическом языке применительно к каждому виду искусства. Более того, эти самые средства они должны заимствовать извне, за пределами искусства, в областях, которые можно было бы назвать насквозь профанными, если бы различение «высокого» и «низкого» по-прежнему имело какой-нибудь смысл. Вместо специфики искусства (и искусств) — образы массовой культуры и масс-медиа, существующие обязательно в режиме повторения, и они-то и становятся де-факто языком современного искусства. Это и есть то, что называют the post-medium condition и что можно описательно передать по-русски так: искусство после конца (исчерпания) присущих ему выразительных средств.
Во-вторых, от искусства сохраняется, как я уже сказала, экспериментальность. Возможно, отношение к ней исторически оставалось двойственным — ведь мы знаем, что было и придворное, и салонное искусство, то есть в основном искусство конформистское. И все же искусство прокладывало свой собственный путь, осваивая мир так, как это могло делать только оно. В нем всегда сохранялось напряжение между личностью и жанром. Большие художники, как правило, переизобретали жанры. Они приводили к смещению устоявшихся жанровых определений: Рембрандт, Тёрнер, Сезанн (если приводить наиболее известные примеры). Только личное в данном случае — это не мера гениальности, а отличительная особенность самого эксперимента, или открытости художника тем воздействиям со стороны внешнего мира, которые заставляют его подчиниться себе. Как показал Мерло-Понти, Сезанн писал свои полотна так, что на них обнажалось столкновение геологических пластов, которое и приводило к появлению его излюбленного образа — горного массива Сент-Виктуар. В целом эта живопись показывает мир до человека (или мир без человека), потому-то она по-прежнему так тревожит зрителя. Каждый влиятельный художник по-своему схватывает действие определенных сил и интенсивностей, одним словом — мира, полного неочевидных отношений. Именно этому художник и дает в конечном счете выражение. Причем выражение может вступать в конфликт с изображением, особенно если последнее продолжает быть фигуративным.
Чувственное — это также и коллективная способность чувствовать.
Эксперимент, выражение — в сущности, синонимы. Это, на мой взгляд, и есть то, что остается от искусства. Или то, в чем искусство продолжается. Художник сегодня — акционист, причем в самом широком смысле этого слова. Он зондирует социальную ткань, берет пробу социальных отношений, выступает катализатором новых. Его удел в наше время неустранимо социален. Но социальная ткань — все же то, что не пощупаешь руками. Ее можно зондировать, только вторгаясь, только действуя как вирус. И современные художники, похоже, это понимают. Конечно, социальная ткань — это не привычный материал искусства, и у нее есть свои разновидности. Обычно искусство, о котором мы сейчас говорим, называют политическим. И действительно, в нем есть явный политический подтекст. Слова панк-молебна группы Pussy Riot или последняя акция художника Петра Павленского — трудно пройти мимо их специфически протестных коннотаций. Однако и там, и там наблюдается не только продленный эффект, но и то, что выходит за рамки узко понимаемой политики. Pussy Riot, совершая «храмовое» действие, подчиняются тому, что можно назвать самодостаточной логикой поступка. Петр Павленский вступает в сложное взаимодействие не столько с репрессивными органами, сколько с институтом права. Объектом воздействия Pussy Riot оказывается не отдельная избирательная кампания (в тот момент они выступали против слияния церкви и политической власти), а целый зыбкий пласт общественных умонастроений. Объект исследования — и вторжения — Павленского — сама правовая система, которую он дестабилизирует своим постоянным вмешательством (вызов свидетелей в суд и т.д.).
Это не означает, что все должны заниматься акционизмом. Согласимся, что такой вид искусства — а точнее, вторжения — подходит далеко не каждому. И все-таки мне кажется, что даже неакционисты имеют с акционистами нечто общее, а именно: их искусство тоже избегает зрелищности. Это можно выразить и по-другому. В объектах, инсталляциях, фотографиях и прочих работах, создаваемых современными художниками, неизменно угадывается дополнительное по отношению к видимости измерение, связанное с тем, что все эти художники исследуют условия видимости, способы сегодняшнего восприятия. Возвращаясь к тому, о чем мы уже говорили, можно утверждать, что в этих работах всегда присутствует и нечто неизображаемое: то, что отсылает к разделяемости практик восприятия в современном взаимосвязанном мире. Это можно понимать и так, что сегодня общее — более не обещание, но допущение (как говорит об этом Вирно; имеется в виду, что не надо стремиться к некоей всеобщности — языка, культуры, нации и государства, потому что все это уже достигнуто). А если общее — это допущение, то это значит, что мы должны именно из этого и исходить и воспринимать такие явления, как индивидуация, то есть выделение единичного, обособление (на языке искусства — оригинальность, или уникальность), в качестве того, что имеет место только на почве всеобщего. Иными словами, произведение искусства (что бы ни вкладывалось в это понятие сегодня) возможно именно потому, что оно «произрастает» из всеобщего, что его уникальность является, так сказать, вторичной по отношению к его универсальности. Говоря точнее, это есть конкретное всеобщее.
 зАиБи (движение «за Анонимное и Бесплатное искусство»). Ночная прогулка по льду Химкинского водохранилища в рамках фестиваля «Три дня независимости». 1–3 марта 1990 г.
зАиБи (движение «за Анонимное и Бесплатное искусство»). Ночная прогулка по льду Химкинского водохранилища в рамках фестиваля «Три дня независимости». 1–3 марта 1990 г. Наконец, мне хотелось бы прокомментировать вопрос о том, что происходит с эстетикой в этих изменившихся условиях. Эстетика в традиционном смысле остается дисциплиной, которая изучает историю идей, историю появления и эволюции основных эстетических категорий. Однако эстетика в современном смысле требует переосмысления самого предмета прежней дисциплины. Это так хотя бы потому, что, как мы видим, изменилось само понимание искусства. Стало быть, если продолжать настаивать на том, что эстетика изучает искусство или что философия искусства является одним из основных ее разделов, то приходится искать новые определения самой эстетики. И нельзя не признать, что такие определения так или иначе существуют. Возможно, все они выстраиваются вокруг предиката «чувственный». Только «чувственный» теперь указывает на более широкий круг явлений, чем переживания, вызываемые классическим искусством. Чувственный — это и определение повседневного опыта в ситуации глобализации, и режим бытования образов (наряду с другими), и ступень познания, освобожденная от своей необходимой связи с познанием трансцендентальным. Чувственное может пониматься как избавление человека от чувственного отчуждения — онемения, каковым отмечена вся промышленная современность. Речь идет о том технологическом панцире, благодаря которому современный человек стал непроницаемым для боли. Следовательно, чувственное — это также и коллективная способность чувствовать, которая имеет откровенно политическое измерение. Можно даже утверждать, что присвоение заново этой способности (по Беньямину — пробуждение) является освобождением от политически реакционной или манипулятивной версии эстетики, как это видно на примере фашизма прежде всего.
Мне представляется, что художник сегодня невольно берет на себя функции исследователя, даже если он не формулирует свои выводы на специальном языке. Сама же эстетика, со своей стороны, приобретает практическое измерение. Это больше не анализ прекрасного или безобразного, не поиск метафизической сущности произведений искусства. Это исследование самой коллективной жизни, как она выходит на поверхность и проявляет себя столькими разными способами — в политике, но вне ее институциональных форм, в искусстве, освобожденном от эстетики, в эстетике, свободной от искусства. Чем бы ни занимался современный художник (подчеркиваю: современный; можно по-прежнему писать картины маслом, ваять скульптуры и даже делать художественные фото; все это будет продолжаться, но только к современности это не имеет отношения), он не сможет обойти стороной очевидную вещь — его произведение будет тем убедительнее (успешнее), чем больше ему удастся дать простор множественным голосам, из гула которых возникает и его собственный голос. Художник сегодня — тот, кто дает выражение этой связанности, бесконечности меняющихся отношений. Не тот, кто стремится их остановить («гений», «шедевр», эстетические категории в их расхожем понимании и есть такие остановленные формы), а тот, кто отказывается от «своего» — авторства, индивидуальности, неповторимости — во имя созидающей мощи понятой так анонимности.
Конечно, художника всегда «подлавливает» институт искусства, который тут же набрасывает на него лассо, деликатно затягивая кольцо, образованное признанием, славой, материальным вознаграждением и прочими атрибутами благополучия. Как бы ни разрешалось это противоречие на уровне личном, зрителя затрагивает именно сопротивление. Сопротивление художника запросам со стороны арт-рынка и арт-институций, сопротивление самим клише «художник», «эстетика», «искусство». То есть, возможно, ожидания зрителей весьма консервативны, и в этом отношении мало что изменилось. А вот тревогу вызывает то, что идет этим ожиданиям наперекор, что заставляет — пускай на какие-то доли секунды — потерять себя, усомниться. Искусство сегодня — прививка, укол. Не противоядие или мельчайшая доза отравы, защищающая организм от летального количества того же вещества, но такое «вакцинирование», при котором вирус не нейтрализуется, а продолжает жить. Эта продолжающаяся жизнь инородного тела в теле «хозяина» и есть невидимый путь современного искусства, разрушающего вековые представления о единстве, тождестве и идентичности. Современное искусство самыми разными способами учит, во-первых, выявлять и учитывать различие, во-вторых, распознавать отношения в их бесконечной динамике и, в-третьих, не доверять изображению как варианту представления, иными словами — как одной из форм приостановки неостановимого и вечно незнакомого потока жизни.
Автор — сотрудник Института философии РАН