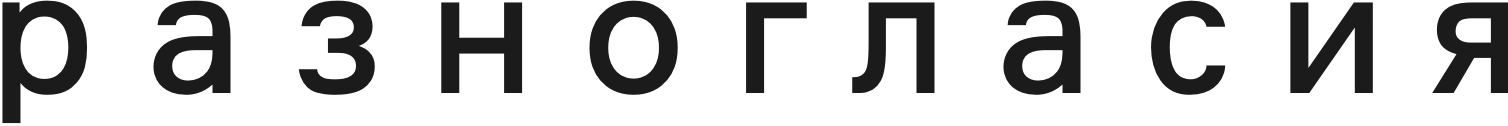«Воскресный день на острове Гранд-Жатт» Жоржа Сёра: антиутопическая аллегория
Линда Ноклин о безысходной тоске городского досуга
 Жорж Сёра. Воскресный день на острове Гранд-Жатт. 1884—1886 гг. Чикаго, Чикагский институт искусств, Мемориальная коллекция Хелен Бёрч Бартлетт
Жорж Сёра. Воскресный день на острове Гранд-Жатт. 1884—1886 гг. Чикаго, Чикагский институт искусств, Мемориальная коллекция Хелен Бёрч Бартлетт«Разногласия» публикуют перевод статьи американского историка искусства и критика Линды Ноклин «“Воскресный день на острове Гранд-Жатт” Жоржа Сёра: антиутопическая аллегория» [1]. Этот текст помимо своего значения для искусствоведения актуален и для российской урбанистики: отчаянная тоска и механистичность городского досуга, о которых пишет Ноклин, — мощный антитезис модной идее о первостепенной важности комфортной среды развлечений в современном городе.
Мысль о том, что шедевр Жоржа Сёра «Воскресный день на острове Гранд-Жатт» — своего рода антиутопия, посетила меня, когда я читала главу «Воображаемый ландшафт в живописи, опере, литературе» из книги «Принцип надежды» — главного труда великого немецкого марксиста Эрнста Блоха. Вот что в первой половине нашего [XX] столетия писал Блох:
«Противоположность “Завтраку на траве” Мане, вернее, его жизнерадостности, составляет загородная сцена Сера “Воскресенье на острове Гранд-Жатт”. Картина — сложившаяся мозаика скуки, мастерское изображение разочарованного ожидания чего-то и бессмысленности dolce far niente. Картина изображает остров на Сене неподалеку от Парижа, где средний класс проводит воскресное утро (sic!) [2]: только и всего, и показано все с исключительным презрением. Люди с ничего не выражающими лицами отдыхают на переднем плане; остальные персонажи в основном размещены между вертикалями деревьев как куклы в коробках, напряженно вышагивающие на месте. За ними видна бледная река и яхты, гребная байдарка, экскурсионные лодки — фон, хотя и рекреационный, но выглядящий скорее как преисподняя, чем как воскресный день. Обстановка, хотя здесь изображено пространство досуга, скорее наводит на мысли о царстве мертвых, чем о воскресном дне. Большей долей безрадостного уныния картина обязана выбеленному свечению ее световоздушной среды и невыразительной воде воскресной Сены, созерцаемой столь же невыразительно <…> Вместе с миром трудовых будней исчезают и все другие миры, все погружается в водянистое оцепенение. Итог — безГрандичная скука, дьявольская мечта маленького человека нарушить шабат и продлить его навеки. Его воскресенье — лишь докучная обязанность, а не желанное прикосновение к земле обетованной. Воскресный полдень буржуа, подобный этому, — пейзаж с самоубийством, не состоявшимся от нерешительности. Короче, это dolce far niente, если только оно обладает сознанием, имеет сознание совершеннейшего антивоскресения на останках воскресной утопии» [3].
Изображение антиутопии, о которой писал Блох, — не просто вопрос иконографии, не просто сюжет или социальная история, отраженная на холсте. Картину Сёра недостаточно рассматривать как пассивное отражение новой городской реальности 1880-х годов или как крайнюю стадию отчуждения, которое связывают с капиталистической перестройкой городского пространства и социальных иерархий того времени. Скорее, «Гранд-Жатт» — полотно, которое активно производит культурные смыслы, изобретая визуальные коды для современного художнику опыта городской жизни. Вот где действует аллегория, вынесенная в заголовок этой статьи («антиутопическая аллегория»). Именно живописная конструкция «Гранд-Жатт» — его формальные приемы — превращает антиутопию в аллегорию. Именно это делает произведения Сёра уникальными — и, в частности, эту картину. Сёра — единственный из постимпрессионистов, кто в самой ткани и структуре своих картин сумел отразить новое положение вещей: отчуждение, аномию, существование в обществе спектакля, подчинение жизни рыночной экономике, где меновая стоимость заместила потребительную, а массовое производство — ремесленное.
Пейзаж с самоубийством, не состоявшимся от нерешительности.
Иначе говоря, если бы не Сезанн, а Сёра занял место ключевого художника-модерниста, искусство ХХ века было бы совсем другим. Но это утверждение, конечно, само по себе утопично — или, по крайней мере, исторически несостоятельно. Ведь на рубеже XIX—XX веков частью исторической парадигмы передового искусства был уход от глобальной, социальной и, прежде всего, негативной объективно-критической позиции, которая воспроизводится в «Гранд-Жатт» (а также на картинах «Парад» и «Канкан» того же автора). Вневременное, внесоциальное, субъективное и феноменологическое — иными словами, «чистая» живопись — утверждалось в качестве основания модернизма. Как мы увидим, парадоксальное убеждение, что чистая видимость и плоская поверхность холста и есть модерность, абсолютно противоположно тому, что показывает Сёра в «Гранд-Жатт», как и в других своих работах.
Начиная с Высокого Возрождения амбициозной целью всего западного искусства было создать такую живописную структуру, которая выстраивала бы рациональный нарратив и, прежде всего, выразительную связь части и целого, а также частей между собой и одновременно устанавливала бы смысловую связь со зрителем. Предполагалось, что живопись «выражает», то есть выводит вовне некоторый внутренний смысл за счет своей структурной связности; что она функционирует как визуальное проявление внутреннего наполнения или глубины, из которых и состоит ткань изображения, — но как проявление поверхностное, хотя и имеющее огромное значение. В таком произведении Ренессанса, как «Афинская школа» Рафаэля, персонажи реагируют и взаимодействуют так, чтобы намекнуть (а в действительности утвердить), что есть некий смысл по ту сторону живописной поверхности, так, чтобы передать некоторое сложное значение, которое и моментально считывается, и выходит за рамки исторических обстоятельств, породивших его.
В каком-то смысле «Завтрак на траве» Мане утверждает конец западной традиции высокого искусства как выразительного нарратива: тень утолщается, приоритет поверхности отрицает какую-либо трансценденцию, жесты больше не выполняют свою миссию установления диалога. Но даже здесь, как отмечает Эрнст Блох в той же главе своей книги, остаются утопические эманации. Действительно, Блох считает «Завтрак на траве» противоположностью «Гранд-Жатт», описывая его как «…желанную сцену эпикурейского счастья» в самых лиричных выражениях: «Мягкий свет, какой мог написать только импрессионист, струится меж деревьями, окутывает две пары любовников, обнаженную женщину, еще одну — раздевающуюся перед купанием — и темные мужские фигуры». «Изображена, — продолжает Блох, — невероятно французская ситуация, полная истомы, невинности и совершенной легкости, ненавязчивого наслаждения жизнью и беззаботной серьезности». Блох причисляет «Завтрак на траве» к той же категории, что и «Гранд-Жатт», — это воскресная картина; ее «сюжет — временное погружение в мир без повседневных забот и нужды. Хотя воспроизвести этот сюжет в XIX веке было уже нелегко, “Завтрак на траве” Мане стал исключением за счет своих наивности и обаяния. Это пышущее здоровьем воскресенье Мане вряд ли было бы возможно [в 1863 году, когда была написана картина], если бы Мане допустил в него мелкобуржуазные сюжеты и персонажей; получается, оно не могло бы существовать, если бы не живописец и его модели». И затем Блох переходит к описанию «Гранд-Жатт», приведенному в начале этого эссе: «Настоящее, даже нарисованное, буржуазное воскресенье выглядит куда менее желанным и разнообразным. Это — изнанка “Завтрака на траве” Мане; иначе говоря, у Сёра беззаботность оборачивается бессилием — вот что такое “Воскресный день на острове Гранд-Жатт” [4]». Похоже, что создать произведение, которое так точно, полно и убедительно отражает состояние модерности, стало возможным не раньше 1880-х годов.
Все системообразующие факторы в проекте Сёра могли в конечном счете служить задачам демократизации.
На картине Сёра персонажи почти не взаимодействуют, от них не остается ощущения артикулированного и уникального человеческого присутствия; более того, нет также ощущения, будто у этих нарисованных людей есть какая-то глубинная внутренняя сердцевина. Здесь западная традиция репрезентации если не аннулирована полностью, то серьезно подорвана антивыразительным художественным языком, решительно отрицающим существование каких-либо внутренних значений, которые должен раскрыть зрителю художник. Скорее, эти механические очертания, эти упорядоченные точечки отсылают к современным науке и промышленности с ее массовым производством; к магазинам, полным многочисленных и дешевых серийных товаров; массовой печати с ее бесконечными репродукциями. Короче говоря, это — критическое отношение к модерности, воплощенное в новом художественном средстве, ироничном и декоративном, и подчеркнутой (даже чрезмерно подчеркнутой) современности костюмов и предметов быта [5]. «Гранд-Жатт» решительно историчен, он не претендует на вневременность или обобщение, и это также делает его антиутопичным. Объективное существование картины внутри истории воплощено, в первую очередь, в знаменитом точечном мазке (pointillé) — минимальной и неделимой единице нового видения мира, на которую, разумеется, зрители обратили внимание прежде всего. Этим мазком Сёра сознательно и бесповоротно устраняет свою уникальность, которую был призван проецировать в произведение неповторимый почерк автора. Сам Сёра никак не представлен в своем мазке. В нем нет ощущения экзистенциального выбора, предполагаемого конструктивным мазком Сезанна, или глубокой личной тревоги, как у Ван Гога, или декоративной, мистической дематериализации формы, как у Гогена [6]. Нанесение краски превращается в сухой прозаический акт — почти механическое воспроизведение пигментированных «точек». Мейер Шапиро в наиболее глубокой, на мой взгляд, статье о «Гранд-Жатт» рассматривает Сёра как «скромного, работоспособного и умного технолога» из «низшего слоя среднего класса в Париже, выходцы из которого становятся промышленными инженерами, техниками и клерками». Он отмечает, что «современное Сёра развитие промышленности воспитало в нем глубочайшее уважение перед рационализированным трудом, научной техникой и изобретениями, движущими прогресс» [7].
Перед тем как подробно проанализировать «Гранд-Жатт» на предмет того, как разрабатывается антиутопичность в каждом из аспектов его стилистической структуры, я хочу обозначить, что считалось «утопическим» в визуальной продукции XIX века. Лишь поместив «Гранд-Жатт» в контекст понимания утопического Сёра и его современниками, можно полностью осознать, насколько противоположен этой утопии характер его произведений.
Конечно, существует классическая утопия плоти — «Золотой век» Энгра. Гармоничные линии, гладкие тела без признаков старения, привлекательная симметрия композиции, свободная группировка ненавязчиво обнаженных или задрапированных под классику фигур в неопределенном ландшафте «а-ля Пуссен» — здесь представлена не столько утопия, сколько ностальгия по далекому, никогда не существовавшему прошлому, «у-хрония». Здесь полностью отсутствует то социальное послание, которое мы, как правило, связываем с утопией. Это скорее утопия идеализированного желания. То же, впрочем, можно сказать о более поздней трактовке тропического рая у Гогена: у него катализатором утопического выступает не временная, а географическая дистанция. Здесь, как и у Энгра, означающим утопии служит обнаженное или слегка прикрытое несовременными одеждами тело — как правило, женское. Как и утопия Энгра, утопия Гогена аполитична: она отсылает к мужскому желанию, чьим означающим служит женская плоть.
 Доминик Папети. Мечта о счастье. 1843 г. Компьень, музей Вивнель© Musée d’Orsay
Доминик Папети. Мечта о счастье. 1843 г. Компьень, музей Вивнель© Musée d’OrsayКартина Доминика Папети «Мечта о счастье» 1843 года куда лучше подходит для того, чтобы погрузиться в контекст утопической репрезентации, оттеняющий антиутопическую аллегорию Сёра. Утопичная и по форме, и по содержанию, эта картина своей иконографией откровенно воспевает фурьеризм и стремится к классической идеализации в своем стиле, мало отличающемся от Энгра, учителя Папети во Французской академии в Риме [8]. И все же утопические концепции Папети и Энгра существенно различаются. Хотя фурьеристы считали настоящее — так называемые цивилизованные условия — порочным и искусственным, прошлое было для них немногим лучше. Настоящий золотой век для них был не в прошлом, а в будущем [9]: отсюда и название «Мечта о счастье». Откровенно фурьеристское содержание этой утопической аллегории подкреплено подписью «Гармония» на постаменте изваяния в левой части полотна, которая отсылает к «государству Фурье и музыке сатиров», а также названием книги «Универсальное общество», в которую погружены молодые ученые (прямая отсылка к фурьеристской доктрине, а также к одному из трактатов Фурье [10]). Некоторые аспекты «Гранд-Жатт» можно прочесть как открытое отрицание утопии Фурье или, точнее, утопизма вообще. На картине Папети утопические идеалы олицетворяют поэт, «воспевающий гармонию», группа, воплощающая «материнскую нежность», и другая, обозначающая светлую детскую дружбу, а по краям — различные стороны любви между полами. Все это акцентировано в «Гранд-Жатт» — поскольку опущено [11]. Папети использует сугубо классическую архитектуру, хотя картина одновременно предполагала, что эти утопические представления направлены в будущее: на ней были изображены пароход и телеграф (впоследствии убранные художником) [12]. И снова мы видим мягкие, гармоничные фигуры в классических, точнее, неоклассических позах; краска нанесена обычным способом. По крайней мере, в дошедшей до нас версии картины признаки модерности растворились в угоду утопии, хотя и фурьеристской, но глубоко укорененной в далеком прошлом и в крайне традиционном, если не сказать консервативном, способе репрезентации.
На более материальных основаниях, чем неясный утопический образ Папети, с антиутопическим проектом Сёра соотносится работа его старшего современника Пьера Пюви де Шаванна. Действительно, «Воскресный день на острове Гранд-Жатт» мог выглядеть совсем иначе или не состояться вовсе, если бы в тот самый год, когда Сёра начал работу над этой картиной, он не увидел работу Пюви «Священная роща» [13], выставленную в Салоне 1884 года. С определенной точки зрения «Гранд-Жатт» можно рассматривать как пародию на «Священную рощу» Пюви, которая ставит под вопрос основания этой картины и ее адекватность современности как по форме, так и по содержанию. Вневременных муз и классическую обстановку Пюви Сёра заменяет самыми свежими нарядами, самыми современными декорациями и аксессуарами. Женщины у Сёра носят турнюры, корсеты и модные шляпки, а не прикрыты классическими драпировками; его мужчины держат в руках не флейту Пана, а сигару и трость; на фоне он изображает современный городской ландшафт, а не пасторальную древность.
 Пьер Пюви де Шаванн. Лето. 1873 г. Шартр, Музей изящных искусств
Пьер Пюви де Шаванн. Лето. 1873 г. Шартр, Музей изящных искусствТакая работа Пюви, как «Лето» 1873 года, созданная через два года после поражения Франции во Франко-прусской войне и ужасных событий вокруг Коммуны и ее последствий, расколовших общество, представляет один из самых чистых образчиков утопии. Как отмечает Клодин Митчелл в своей недавно вышедшей статье, несмотря на узнаваемое изображение далекого прошлого, образная система «Лета» предполагает более общий, даже универсальный временной масштаб — представление о некоторой обобщенной истине человеческого общества. По выражению критика и литератора Теофиля Готье, который много размышлял о творчестве Пюви, он «ищет идеала вне времени, пространства, костюма или деталей. Он стремится живописать примитивное человечество, поскольку оно [sic!] исполняет одну из задач, которые мы можем назвать священными, — сохранять близость к Природе». Готье превозносил Пюви за уход от необязательного и случайного и отмечал, что его композиции всегда имеют абстрактное и общее название: «Мир», «Война», «Покой», «Работа», «Сон» — или «Лето». Готье считал, что для Пюви означающие далекого прошлого, более простого и более чистого, задают более универсальный порядок — порядок самой Природы [14].
Итак, перед нами — классическая живописная версия утопии XIX века, отождествляющей u-topos (отсутствие места) и u-chronos (отсутствие времени) с туманным временем и пространством античности. Живописный мир Пюви расположен вне времени и пространства — тогда как «Гранд-Жатт» Сёра определенно и даже агрессивно размещен внутри его собственного времени. Сложно сказать, подразумевают ли темпорально и географически определенные, подчеркнуто светские названия полотен Сёра («Воскресный день на острове Гранд-Жатт (1884)») антиутопическую критику туманных идеализированных названий Пюви и других классицистов, работавших с аллегорией. Так или иначе, в своих картинах Сёра наиболее серьезно борется именно с утопической гармонией построений Пюви. Хотя Пюви мог располагать персонажей отдельными группами, это не подразумевало социальной фрагментации или психологического отчуждения. Скорее, в своих картинах он превозносит семейные ценности и совместную работу, в ходе которой представители всех профессий, возрастных и гендерных групп выполняют свои, отведенные им, задачи. Работы Пюви идеологически направлены на создание эстетической гармонии как раз там, где в современном обществе сосредоточены дисгармония, конфликты и противоречия, будь то положение рабочих, классовая борьба или статус женщины. Так, например, в формальной структуре «Лета» ценность материнства для женщины и работы для мужчины представлена как — по сути, неотделимая — составляющая природного порядка, а не как изменчивый и спорный вопрос. У Сёра, как мы увидим, классические элементы теряют свою гармоничность: они гипертрофированы в своей нарочитой искусственности, консервативности и изолированности. Такая акцентуация противоречий является частью его антиутопической стратегии.
Утопия Гогена аполитична: она отсылает к мужскому желанию, чьим означающим служит женская плоть.
С антиутопией Сёра контрастируют не только классические и достаточно традиционные работы Пюви. Более прогрессивный художник Ренуар тоже создал полуутопическую систему образов современной ему реальности, повседневного городского существования, в основе которого лежат радости здоровой чувственности и молодой joie de vivre (радости жизни), — например, в таких произведениях, как «Бал в Мулен де ла Галетт» 1876 года, где россыпь разноцветных мазков и кольцевой динамичный ритм в своем радостном смешении всего и вся разыгрывают на уровне формы стирание классового и гендерного разделения в идеализированном досуге современного Парижа. Эта работа Ренуара — наиболее отчетливая противоположность язвительному взгляду Сёра на «новый досуг». Ренуар стремится представить повседневность большого современного города как естественную, то есть натурализует ее; Сёра, напротив, ее остраняет и отрицает какую-либо натурализацию.
Парадоксальным образом именно картина неоимпрессиониста Поля Синьяка, последователя и друга Сёра, дает наиболее яркое представление о том контексте утопических образов, против которого восстает «Гранд-Жатт». Синьяк полностью сознавал социальную значимость работы, созданной его другом. В июне 1891 года в анархистской газете La Revolte («Восстание») он опубликовал статью, в которой утверждал, что, изображая сцены из жизни рабочего класса «или, что еще лучше, развлечения декадентов <…> как Сёра, который с такой ясностью понимал деградацию нашей переходной эпохи, они [художники] предъявят свои доказательства на великом общественном судилище, которое разворачивается между рабочими и Капиталом» [15].
 Поль Синьяк. Во время гармонии (Удовольствия лета). Для газеты «Новые времена». 1895—1896 гг. Кливленд, Кливлендский музей изобразительных искусств, фонд Дадли П. Аллена
Поль Синьяк. Во время гармонии (Удовольствия лета). Для газеты «Новые времена». 1895—1896 гг. Кливленд, Кливлендский музей изобразительных искусств, фонд Дадли П. АлленаКартина Синьяка «Во время гармонии», написанная около 1893—1895 года (эскиз маслом для стенной росписи здания муниципалитета Монтрёй), кажется ответом на специфически капиталистическое состояние аномии и абсурда — иными словами, на «время дисгармонии», представленное в самом известном зрелом произведении его друга [16]. В литографии для газеты Жана Грава Les Tempes noveux («Новые времена») Синьяк представил свою анархо-социалистическую версию бесклассовой утопии, в которой общая беззаботность и человеческое взаимодействие заменяют статику и изолированность фигур «Гранд-Жатт»; в отличие от Сёра, Синьяк подчеркивает семейные ценности, а не затушевывает их, и заменяет городские декорации более пасторальными, деревенскими, в соответствии с утопическим характером своего проекта. Герои, несмотря на то что они одеты относительно современно, скорее мягко идеализированы, как у Пюви, чем соответствуют моде, как у Сёра. В криволинейной композиции с ее декоративными повторами вкрадчиво проводится тема общности — пары или сообщества — в утопическом будущем. Даже курица и петух на переднем плане изображают взаимопомощь и взаимодействие, к которым призывает все произведение и которые так решительно исключаются из мира взглядом Сёра.
Однако к антиутопической трактовке картины Сёра я пришла не только из-за явственных отличий от утопической образности его времени. Критическая реакция современников также служит подтверждением того, что картина прочитывалась как уничтожающая критика современного состояния дел [17]. По выражению Марты Уорд в недавней статье для выставочного каталога, «обозреватели считали, что лица, лишенные выражения, изолированное положение тел и несгибаемые позы — это более или менее тонкая пародия на банальность и претенциозность современного досуга [курсив мой]» [18]. Например, один из критиков, Анри Февр, отмечал, что, рассматривая картину, «приходишь к пониманию ригидности парижского досуга, усталого и душного, где люди даже во время отдыха продолжают позировать» [19]. Другой критик, Поль Адам, отождествил жесткие контуры и нарочитые позы с самим современным положением вещей: «Даже неподвижность этих штампованных фигур как бы озвучивает современность; сразу вспоминаются наши дурно сшитые костюмы, туго обтягивающие тела, запас жестов, британский жаргон, которому мы все подражаем. Мы позируем, как люди с картины Мемлинга» [20]. Еще один критик, Альфред Поле, утверждал, что «художник создал персонажей с автоматическими жестами солдат, которые топчутся на плацу. Горничные, клерки и кавалеристы идут медленным, банальным, одинаковым шагом, который точно передает характер сцены…» [21]
Представление о монотонности и бесчеловечной закрепощенности современной городской жизни, этот основополагающий троп «Гранд-Жатт», проникает даже в анализ самого значительного из критиков этой картины, Феликса Фенеона, — анализ, претендующий на непреклонный формализм: Фенеон описывает единообразие техники Сёра как «монотонное и терпеливое ткачество» — трогательная ошибка, наносящая критику ответный удар. Да, он описывает живописную манеру, но приписывает технике пуантилизма «монотонность» и «терпеливость», аллегорически толкуя ее, таким образом, как метафору основополагающих свойств городской жизни. То есть в этой фигуре речи Фенеона формальный язык Сёра мастерски поглощается как экзистенциальным состоянием, так и техникой работы с материалом [22].
Фигура девочки — это Надежда: утопический импульс, погребенный в сердцевине его противоположности.
Каков же формальный язык Сёра в «Гранд-Жатт»? Как он опосредует и конструирует болезненные симптомы общества своего времени и как создает, в некотором смысле, их аллегорию? Дэниэл Рич был совершенно прав, когда в своем исследовании 1935 года он подчеркивал первостепенное значение новаторства Сёра на уровне формы в том, что он называет «трансцендирующим» достижением «Гранд-Жатт» [23]. Для этого Рич использует две схемы, упрощающие и без того схематичную композицию Сёра: «Организация “Гранд-Жатт” в кривых» и «Организация “Гранд-Жатт” в прямых линиях» — типичный прием формального, «научного» искусствоведческого анализа того времени [24]. Но, как отмечает Мейер Шапиро в своем блестящем опровержении этого исследования, Рич ошибся, не приняв во внимание из-за своего убежденного формализма первостепенное социальное и критическое значение практики Сёра. По мнению Шапиро, столь же ошибочны попытки Рича предложить классицизирующее, традиционное и гармонизирующее прочтение Сёра, чтобы вписать его новаторские идеи в законопослушный «мейнстрим» живописной традиции (как это похоже на историков искусства!) [25].
Для того чтобы отделить Сёра от мейнстрима и осознать его формальное новаторство, нужно использовать специфическое для модерна понятие «системы», которое может быть понято, по крайней мере, в двух модальностях: (1) как систематическое применение определенной теории цвета, научной или псевдонаучной (в зависимости от того, верим ли мы художнику [26]), в его «хромолюминаристской» технике;
или (2) как связанная с этой теорией система пуантилизма — нанесения краски на холст небольшими регулярными точками. В обоих случаях метод Сёра становится аллегорией массового производства в эпоху модерна и потому удаляется как от импрессионистских, так и от экспрессионистских означающих субъективности и личной вовлеченности в художественное производство или от гармоничного обобщения поверхности, характерного для классических способов репрезентации. Как отметила в своей недавно вышедшей статье Норма Бруд, Сёра мог позаимствовать свою систему нанесения краски из актуальной техники массового тиражирования визуальных медиа своего времени — так называемой хромотипогравюры. Механистичная техника Сёра позволяет ему критиковать овеществленный спектакль современной жизни. Таким образом, по выражению Бруд, «она очевидно провокативна по отношению не только к аудитории в целом, но также и к нескольким поколениям импрессионистов и постимпрессионистов: обезличенный подход Сёра и его последователей к живописи угрожал их привязанности к романтической концепции подлинности и спонтанного самовыражения». Как отмечает Бруд, именно «механистичность техники, чуждая представлениям современников Сёра о хорошем вкусе и “высоком искусстве”, могла стать привлекательной для него, поскольку радикальные политические взгляды и “демократичное” пристрастие к популярным формам искусства стали важными формирующими факторами в эволюции его подхода к собственному искусству» [27]. Можно пойти еще дальше и сказать, что все системообразующие факторы в проекте Сёра — от псевдонаучной теории цвета до механизированной техники и более поздней адаптации «научно» обоснованного «эстетического протрактора» Шарля Анри для достижения баланса композиции и выразительности — могли, в конечном счете, служить задачам демократизации. Сёра нашел элементарный метод создания успешного искусства, в теории доступного для каждого; он придумал своего рода демократически ориентированное рисование точками, полностью исключающее роль гения как исключительной творческой личности из акта производства искусства, даже «великого искусства» (хотя само это понятие в режиме Тотальной Систематизации было излишним) [28]. С радикальной точки зрения это утопический проект, тогда как с точки зрения более элитарной — совершенно упрощенческий и антиутопический.
 Жорж Сёра. Эскиз к картине «Воскресный день на острове Гранд-Жатт». Ок. 1886 г. Нью-Йорк, музей Метрополитен, собственность Сэма А. Левисона
Жорж Сёра. Эскиз к картине «Воскресный день на острове Гранд-Жатт». Ок. 1886 г. Нью-Йорк, музей Метрополитен, собственность Сэма А. ЛевисонаНичто не говорит больше о полном отказе Сёра от очарования непосредственности в пользу принципиальной отстраненности, чем сравнение деталей большого предварительного эскиза «Гранд-Жатт» (музей Метрополитен в Нью-Йорке) с деталями оконченной картины. Что может быть более чуждым обобщающим тенденциям классицизма, чем суммирующая схематичность и современность манеры, проявляющиеся в том, как Сёра конструирует, скажем, пару на переднем плане — это изображение настолько лаконично, что его референт считывается так же мгновенно, как референт рекламного знака. Что может быть более чуждым мягкой идеализации поздних неоклассиков, таких, как Пюви, чем острокритическая моделировка руки, держащей сигару, и механистичное закругление трости? Обе эти формы агрессивно означивают классово кодированную маскулинность, конструируя схему мужчины, противопоставленную его столь же социально маркированной спутнице: ее фигура с характерно округлыми за счет костюма очертаниями напоминает по тому, как от нее отсечено все лишнее, постриженные в форме шаров кусты в регулярном парке. Гендерные различия изображаются и выстраиваются в систему очевидно искусственными средствами.
На примере фигуры кормилицы я бы хотела показать, как Сёра с его сардоническим взглядом на отмороженный досуг буржуа работает над типажами, упрощая образ до простейшего означающего, сводя жизненность и очаровательную непосредственность первоначального наброска к визуальному иероглифу. В словесном описании, столь же восхитительно точном, сколь сама картина, Марта Уорд характеризовала конечную версию полотна как «безликую геометрическую конфигурацию: неправильный четырехугольник, разделенный на две части вклиненным посредине треугольником, а поверх них — замкнутые круги». Кормилица, больше известная как Nounou, — шаблонный персонаж, который появился в связи со стремительным развитием визуальной типизации в популярной прессе второй половины XIX века. Сёра, конечно, избегал ловушек вульгарной карикатурности, так же как не стремился дать и натуралистическую характеристику профессии кормилицы — тема, относительно популярная в выставлявшемся на Салонах искусстве этого времени. В отличие от Берты Моризо, которая в изображении своей дочери Юлии с кормилицей (1879) создает репрезентацию кормления грудью как такового — фигура у Моризо фронтальна, обращена к зрителю, живо написана и, хотя упрощена до единого объема, создает острое чувство жизненной непосредственности, — Сёра стирает все признаки профессиональной деятельности кормилицы и ее отношений с грудным ребенком, вместо биологического процесса предъявляя нам упрощенный знак.
 Жорж Сёра. Кормилица с коляской (Чепец и ленты). Ок. 1884 г. Нью-Джерси, коллекция г-на и г-жи Юджин Со
Жорж Сёра. Кормилица с коляской (Чепец и ленты). Ок. 1884 г. Нью-Джерси, коллекция г-на и г-жи Юджин СоСёра серьезно потрудился над этим персонажем; мы можем наблюдать процесс его упрощения в серии рисунков карандашом Конте — от нескольких вполне прочувствованных набросков с натуры (в коллекции Гудйер) до монументального вида кормилицы сзади («Чепец и ленты», в коллекции Тоу). Хотя фигура женщины составлена здесь из нескольких черно-белых прямоугольных и кривоугольных форм, объединенных слабо выделяющейся по тону вертикалью ленты, какие носят кормилицы (и как будто дублирующей позвоночную ось), она сохраняет связь со своим подопечным, толкая детскую коляску. В другом эскизе (в коллекции Розенберга), хотя ребенок наличествует, он превращается в лишенное индивидуальности геометрическое эхо круглого чепца кормилицы, а ее фигура постепенно приобретает симметричную трапециевидную форму, которую мы видим в конечном варианте «Гранд-Жатт». Серия завершается рисунком (коллекция Олбрайт-Нокс), относящимся к окончательному варианту группы кормилицы. В связи с этим рисунком Роберт Герберт отмечал, что «няня, которую мы видим со спины, громоздка как камень. Только чепец и лента, уплощенная до вертикальной оси, дают нам понять, что это действительно сидящая женщина». Короче говоря, Сёра свел фигуру кормилицы к минимальной функции. В финальной версии картины ничто не напоминает о роли кормилицы, питающей дитя, о нежных отношениях грудного ребенка и его «второй матери», какими считали тогда кормилиц. Атрибуты ее занятия — чепец, лента и накидка — и есть ее реальность: будто в массовом обществе больше не находится ничего, что может представить социальную позицию индивида. Выходит, что Сёра редуцировал форму не для того, чтобы обобщить образы и придать им классичность, как объясняет это Рич, а для того, чтобы дегуманизировать человеческую индивидуальность, сведя ее к критическому обозначению социальных пороков. Типажи больше не изображаются в свободно-живописной манере, как в старых кодах карикатуры, но сводятся к лаконичным визуальным эмблемам их социальных и экономических ролей — процесс, родственный развитию самого капитализма, как мог бы выразиться Синьяк.
Закончу я, как и начала, пессимистической интерпретацией «Гранд-Жатт», в композиционной статике и формальном упрощении которого мне видится аллегорическое отрицание обещаний современности — короче говоря, антиутопическая аллегория. Для меня, как и для Роджера Фрая в 1926 г., «Гранд-Жатт» представляет «мир, откуда изгнаны жизнь и движение и все навеки застыло на своих местах, фиксированных в жесткой геометрической рамке».
Изображение классового угнетения в стиле, заимствованном из капиталистических таблиц и схем.
И все же есть одна деталь, которая противоречит такой интерпретации, — маленькая, но вносящая в смысл картины диалектическую сложность, помещенная в самую сердцевину «Гранд-Жатт»: маленькая девочка, бегущая вприпрыжку. Этот персонаж едва ли задумывался в своем финальном, очевидно противоречивом виде, который он имеет в большом эскизе. В более ранней версии почти невозможно понять, бежит ли она вообще. Фигура менее диагональна и больше сливается с окружающими мазками; кажется, что она связана с бело-коричневой собакой, которая в финальной версии находится уже в другом месте композиции. Маленькая девочка — единственная динамическая фигура, ее динамизм подчеркивается диагональной позой, развевающимися волосами и летящей лентой. Она составляет полный контраст маленькой девочке слева от себя, фигуре, построенной как вертикальный цилиндр, пассивной и конформной, подчиненной и как бы изоморфной матери, которая стоит в тени от зонтика в центре картины. Бегущая девочка, напротив, свободна и подвижна, она целенаправленна и гонится за чем-то, что лежит за пределами нашего поля зрения. Вместе с собакой на переднем плане и красной бабочкой, парящей чуть левее, они составляют вершины невидимого треугольника. Можно сказать, что фигура девочки — это Надежда, если говорить в терминах Блоха: утопический импульс, погребенный в сердцевине его диалектической противоположности; антитезис к тезису картины. Насколько отличается динамическое изображение надежды у Сёра — не столько аллегорическая фигура, сколько фигура, которая только может стать аллегорией, — от жесткой и конвенциональной аллегории Пюви, созданной после Франко-прусской войны и Коммуны! Надежда Пюви, можно сказать, безнадежна, если под надеждой мы подразумеваем возможность перемен, неведомого, но оптимистического будущего, а не ригидную неизменную сущность, сформулированную на классическом языке стыдливой наготы и целомудренных драпировок.
 Гюстав Курбе. Мастерская художника. 1855 г. Париж, музей д'Орсе
Гюстав Курбе. Мастерская художника. 1855 г. Париж, музей д'ОрсеФигура ребенка как символ надежды у Сёра — активный персонаж посреди океана вымороженной пассивности, напоминающий нам об еще одном образе: погруженном в работу юном художнике, спрятанном на картине Курбе «Мастерская художника» (1855), подзаголовок которой — «настоящая аллегория». Из произведений XIX века это ближе всего стоит к Сёра: в том, что оно представляет утопию как проблему, а не готовое решение, а также в решительно современной обстановке и, как ни странно, в том, что организовано оно как статичная, замершая композиция. Как и «Гранд-Жатт», «Мастерская художника» — работа огромной силы и сложности, в которой неразрывно сплетены утопические и не- или антиутопические элементы и в которой воистину утопическое и антиутопическое показаны как взаимоотраженные диалектические противоположности. В мрачной пещере мастерской маленький художник, полускрытый на полу в правой части картины, — единственная активная фигура, не считая самого художника за работой. Альтер эго художника, мальчик, восхищенный работой Курбе, занимая центральное место, соотносящееся с местом мастера, олицетворяет восхищение будущих поколений; как и девочку у Сёра, этого ребенка можно считать изображением надежды — надежды, заложенной в неведомом будущем.
Все же в работах Сёра преобладает негативное понимание современности, особенно современности городской. В течение всей своей недолгой, но впечатляющей деятельности он был занят проектом социальной критики, который заключался в конструировании нового, отчасти массового, методически формального языка. В «Натурщицах» (в коллекции Барнса), сардонически насмешливом манифесте противоречий современного общества в отношении «жизни» и «искусства», современные модели снимают одежду в мастерской, обнажая свою реальность на фоне картины — фрагмента «Гранд-Жатт», который выглядит более «современно», более социально выразительно, чем они сами. Какая деталь обозначает здесь искусство? Традиционная нагота «трех граций», которых всегда изображают в трех ракурсах— фронтальном, боковом и со спины, или великое полотно о современной жизни, служащее им фоном? В картине «Кабаре» 1889—1890 годов (музей Крёллер-Мюллер) товаризованное развлечение, грубый продукт нарождающейся масскультурной индустрии, показано во всей своей пустоте и искусственности; это не мимолетные удовольствия, которые мог бы изобразить Ренуар, и не спонтанная сексуальная энергия в духе Тулуз-Лотрека. Превращение мужского носа в свиноподобный пятачок откровенно намекает на жадность до наслаждений. Танцовщицы — стандартные типажи, декоративные пиктограммы, высококлассная реклама слегка опасного досуга.
 Жорж Сёра. Цирк. 1891 г. Париж, музей д'Орсе
Жорж Сёра. Цирк. 1891 г. Париж, музей д'ОрсеВ картине «Цирк» (1891) речь идет о современном феномене спектакля и сопутствующем ему пассивном созерцании. Картина пародирует художественное производство, аллегорически изображенное как публичное представление — ослепительная по технике, но мертвая по движениям акробатика на потребу замершей публике. Даже участники представления кажутся застывшими в своих динамических позах, сводящихся к типизированным изгибам, бесплотным пиктограммам движения. Есть и более мрачные толкования отношений зрителя и спектакля в картине «Цирк». Эта публика, застывшая в состоянии, близкому к гипнозу, обозначает не только толпу потребителей искусства, но может быть понята как состояние массового зрителя перед тем, кто им мастерски манипулирует. На ум тут приходит зловещее произведение Томаса Манна «Марио и волшебник», или Гитлер перед толпой в Нюрнберге, или, уже в наши дни, американский электорат и клоуны-кандидаты, которые с заученной артистичностью озвучивают слоганы и жестикулируют по телевидению. Помимо того что «Цирк» изображает современную ему социальную проблематику, как аллегорическая антиутопия он заключает в себе и пророческий потенциал.
Как мне кажется, «Гранд-Жатт» и другие произведения Сёра слишком часто включались в «великую традицию» западного искусства, бодрым маршем идущую от Пьеро до Пуссена и Пюви, и слишком редко связывались с более критическими стратегиями, характерными для радикального искусства будущего. Например, в творчестве малоизвестной группы политических радикалов, работавших в Германии в 1920-х и начале 1930-х годов, — так называемых кельнских прогрессистов — радикальная формулировка опыта современности Сёра находит своих последователей: это не влияние или продолжение его работы — в своем антиутопизме прогрессисты пошли дальше, чем Сёра. Как политические активисты, они одинаково отрицали искусство для искусства и современное экспрессионистское отождествление социальной болезненности с взволнованной живописностью и экспрессионистским искажением, которые для них были не более чем индивидуалистической передержкой. Прогрессисты — в их число входили Франц Вильгельм Зайверт, Хайнрих Херле, Герд Арнц, Петер Альма и фотограф Август Зандер — прибегли к пробуждающему революционное сознание бесстрастному пиктографическому изображению социальной несправедливости и классового угнетения в стиле, заимствованном из капиталистических таблиц и схем.
 Франц Вильгельм Зайверт. Крестьянская война. 1932 г. Вупперталь, Музей фон дер Хейдта
Франц Вильгельм Зайверт. Крестьянская война. 1932 г. Вупперталь, Музей фон дер ХейдтаАнтиутописты par excellence, они, как и Сёра, использовали коды современности, чтобы поставить под вопрос легитимность существующего социального порядка. В отличие от Сёра, они ставили под вопрос саму правомерность высокого искусства, но можно сказать, что и это было заложено в определенных аспектах его работы. Акцент, который он делал на антигероику, а не на жест; на «терпеливое ткачество», подразумевающее механическое повторение, а не нетерпеливые мазки и удары кисти, которые Фенеон называл «виртуозной живописью»; на социальную критику вместо трансцендентного индивидуализма, — все это позволяет говорить о Сёра как о предтече тех художников, которые отрицают героику и аполитичную возвышенность модернистского искусства, предпочитая критическую визуальную практику. С этой точки зрения у фотомонтажа берлинских дадаистов или коллажей Барбары Крюгер больше общего с неоимпрессионистским наследием, чем у безопасных картин, написанных художниками, использующими пуантиль для создания в остальном традиционных пейзажей и марин и называющими себя последователями Сёра. Антиутопический импульс содержится в самом сердце достижений Сёра — в том, что Блох называл «сложившейся мозаикой скуки», «ничего не выражающими лицами», «невыразительной водой воскресной Сены»; короче, «пейзажем с самоубийством, не состоявшимся от нерешительности». Именно это наследие Сёра оставил своим современникам и тем, кто следовал по его стопам.
Перевод с английского: Саша Мороз, Глеб Напреенко
[1] Этот текст был впервые прочитан в октябре 1988 года в Чикагском институте искусств как часть цикла лекций в память о Норме У. Лифтон (перевод выполнен по изданию: Linda Nochlin. The Politics of Vision: Essays on Nineteenth-century Art and Society. Westview Press, 1989. — Прим. пер.).
[2] Сам Сёра, впервые выставляя это полотно в 1886 году на Восьмой выставке импрессионистов, не указал времени суток.
[3] Bloch E. The Principle of Hope. — Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1986, II. С. 815. Пер. на англ. язык — Невилл Плес, Стивен Плес и Пол Найт. Этот фрагмент также цитировался в другом контексте в последнем каталоге Сёра под ред. Эриха Франца и Бернда Гроу «Georges Seurat: Zeichnungen» (Kunsthalle Bielefeld, Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, 1983—1984), с. 82—83. Для удобства чтения в перевод были внесены небольшие изменения. (На русский язык переведен лишь фрагмент книги: Э. Блох. Принцип надежды. // Утопия и утопическое мышление. М., 1991. — Прим. пер.)
[4] Bloch E. The Principle of Hope, II, c. 813—814. Курсив автора. В перевод внесены небольшие изменения.
[5] Сатирическая гиперболизация структуры живописи — сама по себе антиутопическая стратегия, аллегорически изображающая крах формальной гармонии в более традиционных произведениях своего времени и ставящая под вопрос саму идею о «рае на земле» — как ту социальную гармонию, к которой апеллируют эти произведения.
[6] Сёра не просто устранил из живописного произведения процесс живописного построения, придав своей работе искусственную гладкость и «универсальность», как то делали художники неоклассицизма, к примеру, Энгр. Напротив, на картине Сёра настойчиво присутствует фактура — однако она механизирована, деперсонализирована, антивыразительна.
[7] Schapiro M. Seurat and «La Grande Jatte» // Columbia Review XVII, 1935. С. 14—15.
[8] Папети см. в: Finlay N. Fourierist Art Criticism and the Reve de Bonheur of Dominique Papety. Art History, 2, № 3 (сентябрь 1979 года). С. 327—8.
[9] См. Finlay N. Fourierist Art Criticism. C. 328.
[10] Там же. С. 331.
[11] Любовь между полами если и не полностью удалена из картины, то явно затушевана. Только две фигуры, которые можно счесть любовниками, виднеются на заднем плане композиции. Картина Папети также включала в себя другие изображения добродетелей — например, «laborieux penseurs» (рабочих мыслителей), занятых исследованиями, красивую женщину, спящую в ногах у мужа, и благородного старика, протягивающего руку в жесте благословения дочери и ее жениха.
[12] Finlay N. Fourierist Art Criticism. C. 334.
[13] «Священная роща» в Чикагском институте искусства — уменьшенная копия огромного холста, который хранится в Музее изящных искусств Лиона.
[14] Gautier Тh. Moniteur universel. 3 июня 1867 г. Цит. по: Mitchell Cl. Time and the Ideal of Patriarchy in the Pastorals of Puvis de Chavannes // Art History, 10, № 2 (июнь 1987 г.). С. 189.
[15] Anon. [P. Signac] Impressionistes et revolutionaires // La Revolte, 13—19 июня 1891 г. С. 4. Цит. по: Thomson R. Seurat. — Oxford: Phaidon Press; Salem, N.H.: Salem House, 1985. C. 207.
[16] Само использование понятия «гармонии» в названии отсылает к фурьеристскому и, позднее, более обобщенному социалистическому и анархистскому обозначению общественной утопии. Знаменитая утопическая колония, основанная в США в XIX веке, называлась Нью-Хармони («Новая Гармония»).
[17] Действительно, если посмотреть на критику этого времени, становится ясно, что именно экспрессивно-формальная структура полотна, а не социальные различия, отмечающие подбор персонажей, — или, точнее, беспрецедентное сопоставление рабочих фигур с фигурами среднего класса, которое столь подчеркивал Т.Дж. Кларк в своей последней заметке об этой картине (Clark T.J. The Painting of Modern Life: Paris in the Art of Manet and His Followers. — N.Y.: Alfred A. Knopf, 1985. C. 265—267), — произвела наибольшее впечатление на зрителей 1880-х годов и заставила их счесть «Гранд-Жатт» язвительной социальной критикой. Как недавно отмечала Марта Уорд, современники «признавали разнородность персонажей, но не обращали внимания на ее возможные смыслы. Большинство критиков были гораздо более склонны объяснить, почему все фигуры застыли в постановочных позах, остолбеневшие и лишенные выражения…» (The New Painting: Impressionism, 1874—1886, каталог выставки, Музей изящных искусств Сан-Франциско и Национальная галерея художеств, Вашингтон, 1986. С. 435).
[18] Ward M. New Painting. C. 435.
[19] Цит. по: Ward M. New Painting. C. 435. Томсон цитирует тот же фрагмент, но иначе его переводит: «Мало-помалу мы присматриваемся, мы угадываем что-то и потом — видим и восхищаемся большим желтым пятном съеденной солнцем травы, облаками из золотой пыли в верхушках деревьев, подробности которых не может разглядеть ослепленная светом сетчатка; затем мы ощущаем, что парижский променад словно накрахмален — нормирован и пуст, что нарочитым в нем становится даже отдых». Цит. по: Thomson R. Seurat. C. 115, c. 229. Томсон цитирует Анри Февра: Fevre H. L'Exposition des impressionistes // Revue de demain, май-июнь 1886 г., с. 149.
[20] Adam P. Peintres impressionistes // Revue contemporaine litteraire, politique et philosophique 4 (апрель-май 1886 г.). С. 550. Цит. по: Ward M. New Painting. C. 435.
[21] Целиком этот фрагмент Поле выглядит так: «Эта картина — попытка показать суету банального променада, который совершают люди в воскресных нарядах, без удовольствия, в местах, где принято, что по воскресеньям приличествует гулять. Художник придал своим персонажам автоматические жесты солдат, которые топчутся на плацу. Горничные, клерки и кавалеристы идут одинаково медленным, банальным, идентичным шагом, который точно передает характер сцены, но делает это чересчур настойчиво». Paulet A. Les Impressionistes // Paris, 5 июня 1886 г. Цит. по: Thomson. Seurat. C. 115.
[22] Feneon F. Les Impressionistes en 1886 (VIIIe Exposition impressioniste) // La Vogue, 13—20 июня 1886 г. С. 261—75б пер. — Nochlin L. Impressionism and Post-Impressionism, 1874—1904, Source and Documents in the History of Art (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1966). C. 110. Броская фигура речи Фенеона, которая связывает идею терпения и ткачество, конечно, напоминает гендерно окрашенный образ терпеливо вышивающей Пенелопы и целый сонм историй и метафор, включающих женщин и текстиль, — и не в последнюю очередь знаменитое высказывание Фрейда о женщинах и шитье; в своем эссе «О женственности» он пишет, что шитье — единственный вклад женщин в цивилизацию (Freud S. Femininity // Freud S. New Introductory Lectures on Psychoanalysis, Trans. J. Strachey. — N.Y.: Norton, 1965, c. 131). Детальный разбор гендерно ориентированных тропов и нарративов, связанных с шитьем, ткачеством и швейным делом, см.: Miller N.K. Arachnologies: The Woman, The Text, and the Critic // Miller N.K. Subject to Change: Reading Feminist Writing. — N.Y.: Columbia University Press, 1988, c. 77—101. «Терпеливое ткачество» Фенеона можно также прочитать как антитезу более привычных метафор модернистского творчества, метафоризующих властную силу, спонтанность и эмоциональность творческих практик художника (мужчины) через уподобление его кисти напористому или ищущему фаллосу и подчеркивание, соответственно, либо сокрушительной страстности нанесения краски, либо, напротив, его деликатности и чуткости. В рамках этого дискурсивного контекста фразеологизм Фенеона можно счесть деконструкцией основного образа авангардной продукции модерна — короче говоря, кризисной фигурой речи.
[23] Rich D.C. Seurat and the Evolution of «La Grande Jatte». — Chicago: University of Chicago Press, 1935. C. 2.
[24] Стоит только подумать, например, о знаменитых диаграммах картин Сезанна в книге Эрле Лоран: Loran E. Cezanne Composition: Analysis of His Form with Diagrams and Photographs of His Motifs (Berkeley and Los Angeles, 1943). Эти диаграммы позднее использовал Рой Лихтенштейн в таких работах, как «Портрет мадам Сезанн» 1962 года. Часть книги была опубликована в 1930 году в The Arts. См.: Rewald J. The History of Impressionism, rev.ed. — N.Y.: Museum of Modern Art, 1961. C. 624.
[25] Schapiro M. Seurat and «La Grande Jatte». C. 11—13.
[26] Самый свежий аналитический материал о «научных» теориях цвета Сёра см.: Lee A. Seurat and Science // Art History 10, № 2 (июнь 1987 г.: 203—26). Ли делает однозначный вывод: «Его “хромолюминаристский” метод, не имевший под собой никаких научных оснований, был псевдонаучным: он был обманчив в теоретических формулировках и применялся с безразличием по отношению к любым критическим оценкам его эмпирической состоятельности» (c. 203).
[27] Seurat in Perspective, ed. Norma Broude (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1978). C. 173.
[28] Забавно, что Сёра достаточно свирепо отстаивал свое первенство в изобретении неоимпрессионизма и пытался не дать Синьяку и другим художникам развивать «его» технику. Дискуссию о противоречиях внутри группы неоимпрессионистов см.: Thomson, с. 130, 185—187. Здесь я говорю о возможностях неоимпрессионизма как практики, а не о личной неприкосновенности Сёра как лидера движения. Конечно, существовало противоречие между потенциалом неоимпрессионизма и его конкретными воплощениями у Сёра и его последователей.