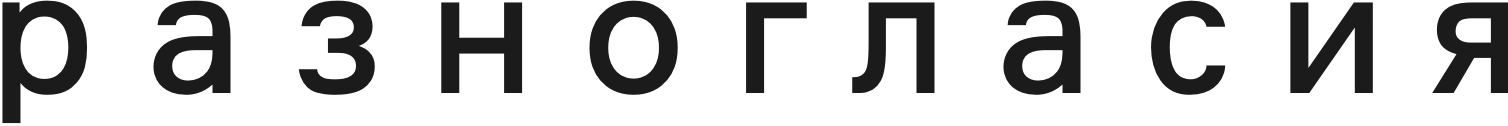«У меня не было ничего, но мне почудилось, что улицы — мои»
Большой опрос художников о Москве и Питере 1990-х: Бренер, «Новые тупые», Глюкля и Цапля, Кулик, Осмоловский, Тер-Оганьян, Мавроматти
У меня не было ничего, кроме одежды, в которой я ходил по улицам, но мне почудилось, что эти улицы — мои. Улица приравнивалась к институции. С конца 1990-х успешно продвигался бренд «Путин», сочетающий как вестерноманию, так и декоративную русофилию. Единственной движущей силой политики является страх. Любое искусство здесь излишне, даже вредно. Город как собственное тело. Невозможно было оторвать одно от другого. — Забери свои деньги. Я советский офицер. Об обществе мы не думали! Мой город, мой литературный, мой придуманный город — теперь он как будто захвачен. Мы тогда вообще не думали, остановит нас милиция или не остановит. Не было идеи, что можно все задокументировать на видео и потом просто подложить голос Шаляпина. Все делалось по-настоящему. Это была ситуация выживания физического, материального. В то время мы были достаточны наивными. Нам было интересно. Сейчас современному искусству учат в институциях. Люди обременены грузом знаний. Можно было передвигаться по городу и «работать» более свободно. Многие дворы были проходными. Милиционеры шмонали торговцев сувенирами, а к нам вообще не было никаких претензий. А сейчас нужны аусвайс, обоснования, аккредитации, регистрации. Невский был темен и пуст, он не мог быть никакой осью. Другие не жили в той топографической реальности, они как бы точечно возникали из ниоткуда. Смысл художника — зацепить время и какую-то возможность. Мы просто успели где-то что-то сделать, где сейчас это невозможно сделать. Тогда не было изуродованного, развращенного большим бизнесом центрального городского ландшафта. Поскольку заработать денег в Петербурге для большинства было практически невозможно, то мало кто к этому и стремился. «Карьерная» сторона жизни отсутствовала. Для меня улица была местом заработка. Демократизм бытия был как у Диогена в винной амфоре в Афинах (хотя в головах шел евроремонт). Яковлева недавно избрали мэром; хоть и видно, что он животное, а прошел. На станции метро «Сенная» меня ставили милиционеры к стенке и пытались стрельнуть из табельного оружия в затылок. Просто жили и пили пиво.
Некоторым художникам Москвы и Санкт-Петербурга, начавшим свою активную деятельность в 1990-е в уличном пространстве, было предложено ответить на следующие вопросы:
— Как бы вы охарактеризовали состояние города (как социальной, пространственной, политической системы), где проходили ваши акции в 1990-е годы? Чем это состояние отличается от городской ситуации предшествующего и последовавшего исторических периодов?
— Пространства, в которых вы совершали ваши акции, — можете ли вы сформулировать логику, согласно которой вы выбирали те или иные конкретные локации в городе?
— Как городская ситуация влияла на образ, форму и содержание ваших акций?
— Что из ваших акций было бы возможно сегодня, а что нет?
Одни опрашиваемые художники ответили на вопросы письменно, другие устно; одни отвечали на вопросы по отдельности, другие сразу на все; некоторым были заданы дополнительные вопросы. Соответственно реплики художников разнятся по форме — но едины по тематике.
Часть опроса, посвященную «Товариществу Новые тупые» (то есть реплики Александра Ляшко, Владимира Козина, Елены Невердовской, Игоря Панина, Максима Райскина, Сергея Спирихина и Олега Хвостова), собирала искусствовед Эльза Абдулхакова, научный консультант выставки товарищества, прошедшей в этом году в ММСИ.
Александр Бренер
Олег Кулик
Олег Мавроматти
Анатолий Осмоловский
Авдей Тер-Оганьян
Ольга Егорова (Цапля)
Наталья Першина (Глюкля)
Владимир Козин
Александр Ляшко
Елена Невердовская
Игорь Панин
Максим Райскин
Сергей Спирихин
Олег Хвостов
Москва
Александр Бренер
Москва первой половины 1990-х годов была пугающим и чарующим городом. Казалось, открывается нечто новое: свобода, парение любви, безвесие в отношениях с людьми, беспредметность в бытовых делах. У меня не было ничего, кроме одежды, в которой я ходил по улицам, но мне почудилось, что эти улицы — мои и я могу делать на них все, что мне вздумается. Город лежал передо мной в виде руины, в ней копошились люди, по дорогам бежали стада машин, всюду царил хаос. Москва наполнилась случайными, обалдевшими людьми, распалась на атомы, гражданская война находилась в фазе конфуза и тупого недоумения, народ чего-то ждал и на что-то надеялся, но не знал, откуда это придет и что это такое. Демократия? Обогащение в две минуты? Сексуальная революция? «Мерседес» для каждого? Полное обнищание? А я решил взобраться на эту вавилонскую руину, скинуть с себя случайную одежду и крикнуть с самой вершины: «Посмотрите — я здесь, живой! Давайте будем живыми!» Вот я и стал делать свои выходки. Я никогда не считал себя «художником», не занимался «перформансами» или «акциями», а придумывал трюки, происшествия, наскоки и выпады и осуществлял их. Иногда между придумыванием и осуществлением не было никакого зазора.
Почему я выбирал те или иные места? Потому что я их любил. Я обожал Пушкинский музей, где обкакался, меня завораживала история Лобного места, откуда я вызвал на бой Ельцина, я хотел подразнить художников, которые собрались в бассейне на месте храма, вот я и подрочил на них, я хотел оскорбить торговцев, когда крушил мольберты уличных художников на Арбате... Я любил тогдашнюю Москву и хотел показать ей, что я с ней, что я вижу ее чудовищную красоту, что я восхищен. И я хотел, чтобы эта Москва меня заметила и тоже восхитилась.
Потом, конечно, все пошло по самому плохому пути из возможных. Как сказал тогда Подорога: «Опять на*бали...» Ну что ж, дураков на*бывают. Пора умнеть.
— Как бы вы охарактеризовали состояние города (как социальной, пространственной, политической системы), в котором проходили ваши акции в 1990-е годы? Чем это состояние отличается от городской ситуации предшествующего и последовавшего исторических периодов?
— После 1991 года и до 2000-х в Москве была нестрашная милиция. С ней можно было договориться — или, если в тебе опознавали художника, к тебе не предъявляли строгих требований и легко отпускали. Это принципиальная особенность.
Опасности можно было ожидать от новых бандитов, хулиганов или отчаявшихся людей — от таких же, как и я, людей, потерявших опору, и именно поэтому я их не боялся. Такого не было ни до 1991-го, ни после 2000-х.
При этом была высокая индифферентность среды. Все были заняты собой. Какие-либо действия, художественные или неадекватные с точки зрения обывателя, могли быть просто не замечены — на что часто и жаловались художники 1990-х: «что ни сделай, все равно Жириновский, депутат Марычев с сиськами или другой политический ньюсмейкер, бизнесмен, чеченский сепаратист круче». Все эти персонажи вели себя намного более вызывающе, артистично и зрелищно. Даже с масс-медийной точки зрения приходилось конкурировать с террористами и со всеми городскими сумасшедшими.
С посвященными зрителями акций часто смешивалась непосвященная и случайная публика. Это было невероятно забавно и давало неожиданный эффект. Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда на акции — либо незнакомые представители власти или случайные прохожие, либо только свои и близкие им «в теме».
— Пространства, где вы совершали ваши акции, — можете ли вы сформулировать логику, согласно которой вы выбирали те или иные конкретные локации в городе?
— Я выбирал именно художественные площадки — будь то галерея Гельмана или Центр современного искусства. Даже если я перекрывал Тверскую, это было согласовано с зоопарком, который эту акцию устраивал («Человек с политическим лицом» в рамках акции-демонстрации «Звери против зверства», Москва, Тверская ул., 16 июля1995 г.). Одна моя акция не была санкционирована в зоопарке, но это было ответом на акцию ученых, а не обращением напрямую к жителям города («Опыты зооцентризма», Московский зоопарк, 23 июля1995 г.). Тогда моими зрителями были люди, которые собрались на акцию современных ученых, протестовавших против пренебрежительного отношения к науке. Но и здесь моя акция оказалась внутри интеллигентной среды людей, в принципе понимающих смысл слова «акция»: ведь я лишь внедрился в другую акцию, где уже было создано некоторое художественное высказывание и пространство для него.
Но надо понимать, что в начале 1990-х все институции и площадки носили характер полуподпольный-полунезаконный. Они появлялись как пузыри, быстро лопались и носили произвольный, временный характер, часто не были согласованы ни с городом, ни с властями, и их участники, скорее, пробовали себя на новом поприще публичности. Это было участие в живой жизни, которая на тот момент пока еще не была противопоставлена институциональной, так как само создание институций носило экспериментальный и, условно говоря, уличный характер. Улица приравнивалась к институции.
— Как городская ситуация влияла на образ, форму и содержание ваших акций?
— Городская ситуация особенно никак не влияла. Было общее восприятие, что мы живем в городе хаоса, потерянных и дезориентированных людей. Это было пространство достаточно гомогенное — по ощущению потерянности и того, что любые смелые действия могут быть успешны и будет время скрыться с места действия, так как всем наплевать; жесткого восприятия не будет в силу того, что все не очень понимают, что происходит в городе, что происходит в жизни. Думаю, так же будет в ближайшие три-пять лет.
— Как бы вы охарактеризовали состояние города (как социальной, пространственной, политической системы), в котором проходили ваши акции в 1990-е годы? Чем это состояние отличается от городской ситуации предшествующего и последовавшего исторических периодов?
— Москва переживала вестернизацию — в основном в смене декораций, но не в смене образа мысли. В 1980-х вестерномания носила персональный характер, то есть индивид самоукрашением демонстрировал свою личную приверженность ценностям общества потребления и одновременно причастность к потребительской элите. В 1990-е из-за легализации западных товаров и услуг возникла смена культа дешевых, доступных брендов на бренды элитные. Репрезентация брендов на фасадах зданий и возведение ТРЦ — аналогов американских и европейских моллов сформировали иллюзию изобилия и возможности выбора. В нулевые вестернизация достигла полной зеркальности с Западом в сфере товаров и услуг и задала новые потребительские нормы.
Одновременно происходила клерикализация: становление и развитие бренда РПЦ, к середине нулевых достигшее апогея, а в настоящий момент затухающее. С конца 1990-х успешно продвигался бренд «Путин», сочетающий как вестерноманию, так и декоративную русофилию. В ходе продвижения бренд проходил стадии модификаций, сравнимые с модификациями топовых компьютерных игр, где на брендовом движке происходит дополнение локаций и миссий, смена текстур, но программный код остается прежним, так как переписать его означает произвести замену движка.
— Пространства, где вы совершали ваши акции, — можете ли вы сформулировать логику, согласно которой вы выбирали те или иные конкретные локации в городе? Как городская ситуация влияла на образ, форму и содержание ваших акций?
— Выбор локаций осуществлялся в соответствии с целями и задачами акций, строго в зависимости от арт-месседжа. Если требовался ХХС задником, а Институт культурологии — «передником», то акция проводилась там, где два объекта сводились в одну логическую линию. А если требовалось место максимальной концентрации празднующих 9 Мая, то предпочтение отдавалось Поклонной горе. Иногда акции проводились исходя из особенностей расположения культурных знаков. Например, мостик между мусульманским и православным кладбищами (акция «Эгрегор НЛО» (1995)). Или обнаруженная членами Секты абсолютной любви (САЛ) могила художника с палитрой и кистями на надгробном камне, превращенная нехитрой манипуляцией с зеркалом в братскую могилу «всеобщего художника» (акция «Братская могила» (1995)).
Разумеется, стимулами к акциям стали строительство и сдача в эксплуатацию ХХС («Не верь глазам»-распятие), перенос памятника Дзержинскому и циркулировавшие слухи о его возвращении (акция «Большая чистка» (2000) — чистка памятника моющими средствами на территории парка ЦДХ), зарождение милитаристского культа 9 Мая («Не убий» (2000) — выжигание знака «пацифика» в области сердца во время салюта на Поклонной горе)...
Кстати, ХХС впервые появился как часть произведения именно в моей акции «Не верь глазам» (2000). Сейчас очевидно, что роль РПЦ была недооценена тогда художественным сообществом, несмотря на скандал после акции Авдея Тер-Оганьяна «Поп-арт» (1998).
— Что из ваших акций было бы возможно, а что невозможно совершить сегодня и почему?
— Естественно, возможно было бы даже сегодня, несмотря на прессинг власти и вероятные более жесткие последствия, провести все акции на тех же самых местах, так как ни одно из мест не было застроено или разрушено. Многие акции совершенно не утратили своей актуальности. Хотя стриминг в момент акции заставил бы ее работать на более широкую аудиторию и получать отклик еще в процессе реализации. Другой вопрос, что состояние тела перформера с годами делается менее репрезентабельным… ;)
— Как бы вы охарактеризовали состояние города (как социальной, пространственной, политической системы), в котором проходили ваши акции в 1990-е годы? Пространства, где вы совершали ваши акции, — можете ли вы сформулировать логику, согласно которой вы выбирали те или иные конкретные локации в городе?
— Город был свободным полем дикой охоты. За чем охотились художники? Искали точки, места «силы», т.е. такие места, где появление человека выделяет его из его окружения. Ну, несколько юмористически это можно проиллюстрировать таким мусульманским понятием, как хадж. Только, в отличие от традиционного хаджа, акционист находил ранее не замечаемое место, точку. И «посещал» его. Сейчас, на мой взгляд, эта тема уже давно исчерпана. Последнее добавление сделали Pussy Riot. А Павленский — просто эпигон.
— Как городская ситуация влияла на образ, форму и содержание ваших акций?
— Во-первых, важен был фактор скорости. Прежде всего продумывалось, как быстрее захватить («посетить») место. Во-вторых, важен был фактор времени (как символически важной даты). Начало военных действий (15 января 1991 года — акция «Указательный палец»), вышедший накануне «закон о нравственности» (18 апреля 1991 года — акция «ЭТИ-текст» («Х*й на Красной площади»)) или 30-летие майских событий в Париже (10 мая 1998 года — акция «Баррикада»).
— Что из ваших акций было бы возможно, а что невозможно совершить сегодня и почему?
— Я, честно говоря, не знаю, что ответить. Я просто не знаю, что такое сейчас уличное искусство. Граффитизм? Или павленскизм?
Я думаю, что общественно-политическая ситуация либо практически не влияет на искусство, либо ее влияние настолько очевидно, что констатировать его — банальность. Понятно, что сейчас перформансы крайне тяжело делать, но на художественный аспект это почти не влияет. Например, сделать акцию в 1991 году на Красной площади, где мы выложили слово «Х*Й» своими телами, — это был героизм, может, и побольше, чем у Павленского. Просто потому, что у всех был глубинный и безотчетный страх перед советской властью. Активисты, придя на площадь, просто одеревенели. Я их практически насильно клал на брусчатку. То есть возможные репрессии не способны остановить, если логика развития искусства диктует тот или иной жест. А значит, искусство независимо от общественно-политического влияния.
— Но вы же перестали заниматься уличным акционизмом именно после преследования со стороны ФСБ из-за акции с захватом Мавзолея «Против всех» (1999)?
— Да, после преследования. Но это преследование лишь наиболее рельефно обнажило проблему или, скорее, разницу между политическим и художественным действиями. Произошло осознание, что это разные виды деятельности.
Когда художник входит в непосредственное столкновение с силовыми структурами государства, довольно быстро выясняется, что законченная инновативная форма (как бы ее ни понимать) — это только помеха. В таком столкновении ценными являются быстрота реакции, постоянство и повтор элементарных форм (например, пикеты каждый день), необратимость действия (посредством достижения принятия тех или иных политических решений или законов), массовость и общедоступность. Весь этот набор прямо противоречит ценностям искусства.
Единственной движущей силой политики является страх. Каждая из борющихся сторон должна умело этот страх вызывать. Любое искусство здесь излишне, даже вредно. Значительно более страшно безыскусное долбление касками по асфальту шахтеров, чем какая-то яркая артифицированная манифестация. Значительно более эффективны постоянные, каждый день в течение длительного срока пикеты, пусть даже из трех человек, но с элементарно сформулированными требованиями, чем несколько провокативных перформансов за этот же срок, которые попадут в газеты. Яркость действия воспринимается как амортизация или как избыток, а подлинный страх вызывает тот, кому нечего терять, кроме своих «цепей».
Силовые структуры своими действиями просто навязывают логику эффективности, а не эффектности, которая является ценностью для художника. Художественная логика трансформируется в логику политическую. «Веселое сопротивление» по Делезу тут невозможно по определению. По крайней мере, невозможно в ситуации прямого противостояния. А это противостояние будет обязательно навязано, если структуры государства посчитают сопротивление помехой для своих целей.
Что бы обо мне ни думали, я не отношу себя к акционистам, работавшим в пространстве улицы. Сам по себе я всегда выступал именно в художественном пространстве. В отличие, например, от Осмоловского, который в 1990-е говорил, что хочет возглавлять субкультурное движение. Он был более авангардно настроен — искусство его тогда интересовало во вторую очередь, как средство. А Бренер занимал романтическую позицию и с нее тоже радикально критиковал искусство. Я же всегда понимал, что я всего лишь художник. Кулик, кстати, мне тоже кажется художником иного типа, чем Бренер с Осмоловским, — он не акционист, все его перформансы были очень театральны, и он никогда не был левым радикалом и никогда не критиковал искусство как таковое.
Да, я тогда очень много пьянствовал и вел богемный образ жизни. Я постоянно пребывал в какой-то стихии уличной подлинности и попадал в безумные ситуации. Меня били, забирали в милицию из-за моих чудачеств. Но это непрерывное артистическое поведение никто не называл перформансом. Я устраивал эти «перформансы» для друзей. Сейчас эти чудачества кажутся похожими на ситуационистские практики, дрейф, радикальное растворение искусства в жизни… Большинство своих художественных акций я придумал раньше в шутках, а потом перевел их в форму произведения. Но все-таки искусство для меня было всегда чем-то более сделанным, формализованным, я относился к нему иначе. Меня интересовали рамки выставочного пространства. Во многом именно за этим я приехал в Москву из Ростова-на-Дону в 1989-м: мне не хватало там художественного профессионального сообщества.
В 1980-х я был частью советской системы искусства — художественная школа, училище... И, надо сказать, никаких двух разделенных миров официального и неофициального искусства не было — были люди, делавшие официальную карьеру, а были плевавшие на нее, но все всех знали. В перестройку вообще все смешалось, нам стали давать выставочные залы, и еще издавались огромными тиражами журналы «Творчество» и «Искусство», где все это подробно описывалось.
Когда я ездил в Москву из Ростова в 1980-е, это был очень красивый советский город с интеллигентными людьми, Москва была на очень высоком уровне — по сравнению с Ростовом тем более. Я переехал в Москву. Но вскоре, после развала СССР, начался какой-то бытовой кошмар — не было еды, целый год мы питались только в столовой. Но у этого была компенсация — ощущение безумного мира. Вначале у меня была эйфория от идеи перемен — что все пройдет и цивилизуется. Уже после расстрела Белого дома в 1993-м стало ясно, что все совсем не так хорошо.
Когда мы привели пьяных нищих с улицы на выставку в галерею в Трехпрудном и сделали их содержанием этой выставки («Милосердие»,1991 г.), это не было цинизмом. Мы с этими людьми распивали на бульваре, общались. Я привел ту реальность, в которой жил. Пусть изрядная часть московской богемы не замечала этих бездомных, а мы их привели — и это была повседневность нашей уличной жизни, а не экзотика.
Но я критично сейчас отношусь ко всей этой идее преодоления и размытия границ искусства. И, мне кажется, дурные последствия потери критериев искусства мы видим в этом повальном восхвалении Pussy Riot и Павленского — все как будто голову потеряли и не видят, что это не искусство, а если искусство, то плохое. Но все говорят про их героизм и их лозунги, как будто это атрибуты хорошего искусства.
Шли 1990-е. Мы пили. Накал страстей увеличивался. Я сталкивался с вооруженными людьми, меня все время грабили — а в советское время у меня не было ни одного конфликта на улице, даже несмотря на мой тогдашний экстравагантный вид.
К концу 1990-х все становилось мрачнее и мрачнее. Мы сами стали ощущать агрессию, хотя я до того был довольно ироническим человеком. И в 1998 году мы с Толиком Осмоловским дошли до того единственного для меня раза, когда мы действительно вышли за все границы — в акции «Баррикада на Большой Никитской» в рамках Внеправительственной контрольной комиссии. Мы перегородили улицу, и не было понятно, где кончается игра, а где начинается нечто иное… Это была колоссальная разница с первой половиной 1990-х. В начале 1990-х мы понимали, что ну заберут Бренера в милицию, отпустят, но суть того, что он делает, все же со стороны искусства. Тут уже было не так просто.
Кроме того, во второй половине 1990-х произошел спад рынка, и вся суетливая и мутная коммерческая жизнь искусства вокруг первых галерей тоже изменилась. И, когда нам понадобились деньги, галеристы тут показали себя, и стало ясно, что они никакие нам не партнеры и не друзья — как пытался, например, выглядеть Марат Гельман. И все это для меня закончилось конфликтом с арт-миром вокруг моей акции в Манеже в 1998-м («Юный безбожник»), в результате которого меня просто слили, отбросили. Я, кстати, совершенно не рассчитывал на такой медийный скандал…
Как политическое движение акционизм потерпел поражение. Его деятели оказались, в общем-то, не правы. Бренер взялся воевать со всем миром и теперь путешествует в позе обиженного анархиста. Толя Осмоловский, мне кажется, тоже растратил свой напор. Я очень уважаю этих людей, это мои друзья. Но главные проявления радикального акционизма сейчас мне кажутся ошибкой.
Санкт-Петербург
Группа «Фабрика найденных одежд»
(Ольга Егорова и Наталья Першина)
— Чем был для тебя как художницы город в 1990-е?
— Я приехала в Петербург из Хабаровска, когда мне уже было 20 лет. И как-то ужасно полюбила город — острой любовью, почти как к человеку. Я даже тогда говорила, что Питер — как муж для меня. Пока не произошли замены, это была мощнейшая привязанность.
Питер, с одной стороны, мы ощущали как живой организм, с другой стороны, как текст, литературу, произведение искусства. В Питере тогда происходило выискивание малого искусства, которое просачивалось сквозь искусство большое. Вокруг тебя большие архитектурные ансамбли, тут Росси, а тут Монферран. Но важно было найти искусство в том, как кто-то в подворотне пописал. Мы были способны встать и смотреть, как чья-то писа растеклась и взаимодействует с трещиной на асфальте. А герои Достоевского просто жили вместе с нами — не как тени, а вполне реально. Мы жили в этом. И поэтому, когда мы решили делать нашу акцию «Памяти бедной Лизы», то мы пошли, куда нас повело сердце. Нас вели и Карамзин, и опера Чайковского.
Сначала мы пошли к Зимней канавке с нашими возлюбленными, потому что нужно же было измерить глубину. Мы взяли с собой чугунный утюг, привязали его на веревочку. Саша Скидан с нами был, между прочим. Мы же не занимались тогда искусством, как занимаются им профессиональные художники — «идем делать акцию». Нет, мы просто шли ставить памятник бедной Лизе. В Петербурге тогда искусство совершенно растворялось. Приезжали большие кураторы: «Все говорят, что в Петербурге делают исключительно прекрасное искусство. Не могли бы вы предъявить нам какой-то образец?» А предъявить было совершенно нечего. Потому что это все происходило с утра до вечера и никак не фиксировалось. Тогда же не было всех этих прекрасных девайсов.
Мы позвали тогда наших товарищей, в том числе Иру Актуганову, а она взяла и пригласила телепередачу «Адамово яблоко», совершенно кошмарную, мачистскую. Мы приходим на место, а там — телевидение! Уже поставили свет, настроили камеру. Как мне было страшно! Я же плавать не умела тогда, а надо было прыгнуть. Но одновременно очень хотелось преодолеть смерть. Потому что бедная Лиза прыгнула в воды Зимней канавки и утонула, а мы-то не собирались тонуть. Мы заранее тренировались с Глюклей, прыгали со стола у нее в мастерской на счет раз-два-три. И вот мы прыгнули, выплыли, нам одеяла и водку дают, мы выпиваем водку... А эти добрые люди из «Адамова яблока» потом что только не говорили про нас по телевидению. Это были настоящие мачо 1996 года, представляешь, как они могли комментировать. После этого наш перформанс долго был заставкой к передаче «У всех на виду». И вот я иду по каналу Грибоедова и вдруг слышу, как парень стоит на этой стороне и кричит в окно девчонке: «Ты слышала, по ящику показывали вчера? Зимняя канавка…» И я иду и думаю: ура, это я, это я, это я... Наивно, конечно, но это было невероятное ощущение, что все возможно.
Питер как-то в костях оказался, потому что мой первый муж был дворником. На самом деле он великий художник — Сергей Денисов, но он работал дворником. Когда приехала в Питер, я стала жить с ним. Его очень хвалили на районе, и я однажды шла и слышала, как женщины говорили, что «у нас на участке всегда очень-очень чисто». А это был особый район: Соляной переулок, Мухинское училище, речка Фонтанка, Летний сад… И, знаешь, такое вот обнюхивание города всегда было, и не только у меня — у нас у всех. Город как собственное тело. Невозможно было оторвать одно от другого. Казалось, я могла вытянуть руку и дотянуться от Невского проспекта до Стрелки Васильевского острова... Где-то мы пели, где-то танцевали, мы все время жили в городе. И дома постоянного у меня не было. Сейчас есть. Мы выросли.
— Историческое состояние города 1990-х годов — как бы ты охарактеризовала его?
— Начало века. Серебряный век. У нас с Глюклей была такая героиня, называлась она «гимназистка». Имелась в виду, с одной стороны, историческая гимназистка, румяная, которая пила уксус для бледности, которая растворяла в уксусе перламутровые пуговицы и натиралась, которая стрелялась из-за любви. С другой стороны, слово «гимназистка» означало для нас такое состояние, когда ты готов пойти на смерть, на подвиг ради того, что в этот момент считаешь важным. Гимназистки отправлялись на фронт сестрами милосердия, становились революционерками… Гимназистка — уязвимая, очень слабая часть в душе каждого человека. Можно найти гимназистку в душе дворника, в душе генерала, в душе поэта, в душе кого угодно. Она очень хочет быть любимой, и она ради любви этой, ради того, чтобы быть видимой кем-то, готова пойти на все… Так мы тогда думали.
— Интересно, как вы перекодировали эти вписанные в тело Петербурга литературные коды в по-своему феминистском ключе.
— К сожалению, мы тогда с Глюклей не были феминистками совершенно.
— Может, это и нельзя назвать феминизмом в его обычном современном понимании, но вы ставите женщину, «гимназистку», Лизу в центр вашей конструкции мироздания…
— Мы всегда были за равенство. Да, люди отличаются друг от друга, все мы разные, но я до сих пор убеждена, что феминизм — это о равенстве, и это прекрасный тренинг — производить мысленную операцию, спрашивая себя, где и в чем люди равны. Сейчас это непопулярно, люди считают, что война полов гораздо более интересна. Но меня никто с этой точки зрения не собьет — что важнее думать про то, где мужчины и женщины равны.
Но в 1990-х годах об этой социальной проблематике никто не говорил. Мы считали, что «Фабрика найденных одежд» — это тайный орден, мы придумывали игру, и нам казалось, что все в нее играли. Мы с Глюклей создавали «хорошо организованную грезу», так мы это называли.
— Правильно организованный бред — как говорят психоаналитики про результат анализа…
— Но удивительно то, что люди верили нам. Все играли по нашим правилам.
— Зрители?
— В 1990-е годы мы никогда не адресовались к зрителям. Мы адресовались только к своим друзьям, таким же, как мы. Зрителя для нас как бы не было, на тот момент он нас вообще не интересовал.
— То есть вы были как бы выключены из общества.
— Об обществе мы не думали! Оно нас не интересовало.
Я только недавно осознала, что у вас совершенно нет опыта советского, и только недавно поняла, что это значит. Вы выросли при постмодернизме, где все в культуре играло. И вам нужно преодолевать именно это. Мы-то были в выигрышной ситуации — нам нужно было преодолевать какое-то дурацкое корыто, какой-то идеологический мешок. А постмодернизм, в котором вы, бедняжки, подросли, который мы для вас создали, — это очень изощренная ироническая вязь, ее преодолевать куда сложнее.
— Расскажи про вашу акцию «Триумф хрупкости». Это акция, тоже очень погруженная в текст, пространство города, и тоже про смешение полов, в центре которого — «гимназистка».
— Мы показали в этом перформансе правильное взаимоотношение силы и слабости. Мы с Глюклей всегда были о слабости, но такой, которая может трансформироваться в очень специальную силу. Как ты думаешь, какая лампочка светит на маяке?
— Очень большая, наверное?..
— Нет, 220 вольт. Просто система зеркал усиливает свет. Я думаю, что слабость устроена так же. Существуют ситуации, когда обыкновенное, ничем не примечательное может трансформироваться. И, в принципе, слабое делает человека человечным. В «Триумфе хрупкости» идут сильные моряки и несут в руках слабые тени белых платьиц.
— У вас был какой-то договор с городскими властями? Или тогда это не вызывало вопросов?
— Нет, тогда это не нужно было. Мы заплатили морякам деньги, естественно. Но город не сопротивлялся, даже наоборот. Когда я пришла к начальнику подводников, чтобы договориться с ним выпускать эти платья из-под воды, я ему говорю: «Знаете, вот мы с подругой хотим это…» А он смеется. Я говорю: «Вот у нас какие-то деньги есть…» Он в ответ: «Забери свои деньги. Я советский офицер. Я могу это сделать для тебя, для твоей подруги, для искусства, но ради денег я это делать не могу. Для тебя сделаю». То был 2002 год.
— Сейчас эта эпоха закончилась?
— Закончилась, конечно.
— А когда и как?
— В 2004 году мы делали «Дрейф», и тогда еще было в Питере то течение города, которого сейчас уже нет. Но тогда мы уже понимали, что город — это социальное пространство.
Переломным был 2003 год с нашей первой акцией группы «Что делать?», которая называлась «Мы уезжаем из Петербурга». Было празднование 300-летия Петербурга, и мы были возмущены всей этой официозной и рекламной хренью, было отвратительно. И мы решили: раз все приезжают в Петербург, то мы уедем. И уехали на проспект Ветеранов, чтобы основать новый город. Там нас арестовала милиция, естественно. Это были по сравнению с нынешними сладчайшие времена: составили протокол, осудили быстренько, 500 рублей штрафа с каждого — и отпустили. Но вот тут и стало очевидно, что город — это общественная система, а не текст, в котором ты просто вольно плаваешь.
— Это очень интересно, что вы стали думать об обществе ровно тогда, когда стало заметно присутствие государства.
— Да. Помню, тогда приехал Ким Чен Ир, ехали шикарные старые автомобили, и автоматчики стояли рядами. И у меня случился тогда какой-то щелчок: мой город, мой литературный, мой придуманный город как будто захвачен.
Сейчас, когда я выхожу в город, то это возможно только сознательно, я иду на демонстрации или снимать фильм. Это мой поступок. А так я не выхожу в город, я бегу по городу в какое-то место из точки в точку...
— У меня ощущение, что город поделен на зоны доступа. Это, видимо, то, чего у вас не было. Я всегда должен понимать, имею я право здесь находиться или не имею.
— Да-да! Раньше так вообще вопрос не стоял! Наше время было в некотором смысле гораздо хуже — очень бедное, очень опасное. Но что касается каких-то живых вещей, все было гораздо интереснее.
— Ощущение опасности города для вас было важным?
— Конечно, да! Город должен быть опасным. Сейчас, когда у меня дочь, я соглашаюсь, что город лучше делать безопасным. Но вообще-то, если твоя жизнь безопасна, то непонятно, как ты можешь ее почувствовать. Нарвская, когда мы делали там рейд, была очень опасным местом! Там были улицы (сейчас их снесли), на которых стояли дома, давно уже предполагавшиеся под снос, но заселенные какими-то деклассированными людьми: отчасти они еще работали на ближайших заводах, отчасти вообще уже нигде не работали… Почти трущобы. Там жили крысы вместе с людьми, блохи, клопы, дома разваливались.