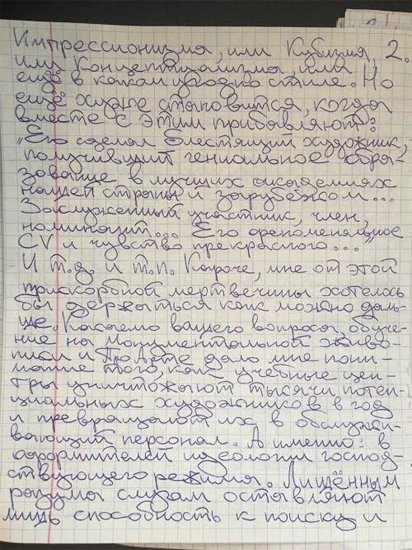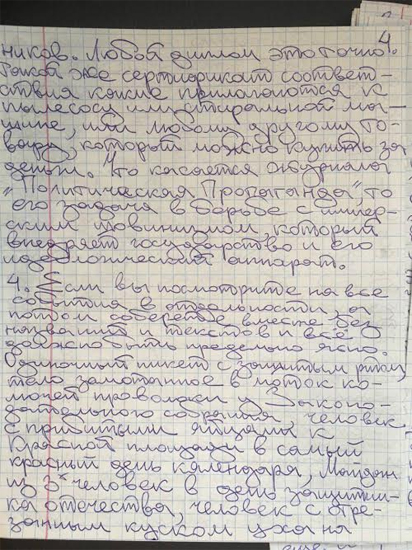— Аргументация ваших противников: «Да он вообще не художник!» Скажите, что вам дало обучение в классе монументальной живописи Академии Штиглица и институте «Про арте»?
— Прежде всего, мне очень льстит такая аргументация, так как политическое искусство всегда опровергает навязанные системы представлений. Говоря по-другому, рвет рамку идеологической действительности. То есть событие политического искусства означает, что состоялось что-то иное, еще до этого не высказанное. То, что находится на поверхности, но чему не было найдено возможности выражения. Короче, раз политическое искусство работает с системами представлений, значит, само оно должно находиться за пределами этих систем. И поэтому оно воспринимается как иное и чужое по отношению к языку, пытающемуся его найти. Я думаю, что для любого события равносильно приговору, если после его осуществления все в один голос говорят: «О, какое изумительное произведение искусства в стиле… импрессионизма, или кубизма, или концептуализма, или еще в каком угодно стиле». Но еще хуже становится, когда вместе с этим прибавляют: «Его сделал блестящий художник, получивший гениальное образование в лучших академиях нашей страны и за рубежом… Заслуженный участник, член, номинант… Его феноменальное CV и чувство прекрасного…» Мне от этой прискорбной мертвечины хотелось бы держаться как можно дальше. Касаемо вашего вопроса: обучение на монументальной живописи и в «Про арте» дало мне понимание того, как учебные центры уничтожают тысячи потенциальных художников в год и превращают их в обслуживающий персонал, а именно — в оформителей идеологии господствующего режима. Лишенным разума слугам оставляют лишь способность к поиску и удовлетворению заказчика. Чем богаче заказчик, тем больше его желает удовлетворить оформитель. Для меня это все неприемлемо, потому что, на мой взгляд, это сродни проституции.
— Во всех ваших акциях прослеживается не просто политическое высказывание или шок-эффект, но как раз знание и понимание истории искусства, видна глубокая визуальная красота, отсылающая, как кажется, и к древним грекам, и к Караваджо. Можно вспомнить и венских акционистов, и Марину Абрамович, и отечественных Олега Кулика и Александра Бренера. Вы можете назвать тех художников, которые оказали на вас влияние?
— Да, конечно. Это названный вами Караваджо, Казимир Малевич и Люсьен Фрейд.
Учебные центры уничтожают тысячи потенциальных художников в год и превращают их в обслуживающий персонал, а именно — в оформителей идеологии господствующего режима.
— У человека, далекого от искусства, могло сложиться впечатление, что в 2012-м вы явились со своей акцией «Шов» как черт из табакерки. Между тем вы вместе с вашей женой Оксаной Шалыгиной занимались проектом «Политическая пропаганда», сотрудничали с Музеем политической истории России. Не могли бы вы конкретизировать, чем занимались после окончания Мухинского училища и до того, как попали в эпицентр общественного внимания? В частности, в чем задача онлайн-журнала «Политпропаганда»?
— А я и не оканчивал Мухинское училище. Я вообще не окончил ни один учебный центр, в котором находился. Даже аттестат о среднем образовании мне удалось получить путем некоторой аферы с одной из вечерних школ. Акцию «Шов» я делал, когда еще формально числился студентом и Мухинского училища, и «Про арте». И ни то, ни другое учреждение я ни при каких обстоятельствах окончить не мог, потому что окончание и получение диплома означало бы, что я дал согласие на то, во что они превращают десятки тысяч потенциальных художников. Любой диплом — это точно такой же сертификат соответствия, какой прилагается к пылесосу, или стиральной машине, или любому другому товару, который можно купить за деньги. Что касается журнала «Политическая пропаганда», то его задача — борьба с имперским шовинизмом, который внедряют государство и его идеологический аппарат.
— После своих акций вы даете совершенно блестящие комментарии, объясняющие их суть, смысл и значение. По прошествии времени создается впечатление, что вы последовательно выстраиваете своеобразный полиптих. Не могли бы вы дать определение всему этому «циклу»?
— Если вы посмотрите на все события в отдельности, а потом соберете вместе без названий и текстов, то все должно быть предельно ясно. Одиночный пикет с зашитым ртом, тело, замотанное в комок колючей проволоки, у Законодательного собрания, человек с прибитыми к Красной площади яйцами в самый красный день календаря, Майдан из трех человек в День защитника Отечества, человек с отрезанным куском уха на стене главного психиатрического центра страны, горящая Служба безопасности — все это визуализация той политической ситуации, в которой мы сегодня оказались. Политический климат, режим, идеология — это очень многосоставные, сложные образования. И моя задача как художника — сформулировать это множество в адекватный действительности визуальный знак. Если говорить более лаконично, то вся задача состоит в том, чтобы дать возможность людям увидеть, что с нами вообще происходит. Вот, в общем-то, и все. А так я ничего не выстраиваю, у меня нет никакого «бизнес-плана». Да и что может быть глупее построения долгосрочных планов на будущее, когда еще в ноябре я осуществлял «Фиксацию», а уже в декабре был в Украине, где вовсю разгорался многотысячный киевский Майдан.
— Можно ли сказать, что тело является для вас инструментом искусства и борьбы?
— Равно как и каждое тело для любого другого человека. Все тела используются как инструменты для своих или чужих целей. Наверное, только парализованный или мертвый может не очень много самостоятельно сделать в этом мире.
— Является ли частью вашего замысла все то, что происходит с вами в последние месяцы? Судебное преследование, психиатрическая экспертиза — это развитие и доведение до совершенства визуального образа художника с канистрой на фоне горящей двери Лубянки? И в этом смысле ваше требование о переквалификации дела на статью «терроризм» как раз могло бы довести замысел до конца? Или все это — некий оправданный и понятный риск?
— Нет, это не может быть частью замысла просто потому, что я не могу никогда знать наперед, как будет развиваться событие. Задерживают и отвозят в отдел и больницу меня после каждой акции! И с чем связано возбуждение уголовных дел, тоже остается за пределами всякой логики. И, как ни странно, это остается даже за пределами логики судебно-правоохранительной системы. И именно с этим нарушением связано мое требование переквалифицировать статью в «терроризм». Теперь подробнее: прежде всего, это требование направлено против лицемерия судей, следователей и прочих прихвостней бюрократического аппарата. Но основная беда в том, что населению навязана привычка довольствоваться полумерами. И из-за этого судебно-правоохранительная логика легко скрывает себя за декорацией гуманизма. Моя цель — обнажить механику этого уголовно-процессуального конвейера по производству преступников. Ну и потом, если правоохранители так трусливы, что готовы до последнего скрываться за ширмой «гуманности», то пускай эта ширма станет олицетворением их слабости. Правоохранители сами ставят меня в беспроигрышное положение, когда я могу требовать у них больше, чем они в состоянии дать.
Политическое искусство работает с системами представлений, а значит, с общественным пониманием.
— Большинство ваших акций вы делали в одиночестве, но вот в подготовке и проведении акции «Свобода» в 2014 году участвовало несколько человек. Почему вы в этом случае изменили своему принципу индивидуального высказывания?
— Прежде всего, подготовку я осуществил самостоятельно. А что касается самой акции, то все участники присоединись и действовали совершенно спонтанно. Моей задачей было подготовить и создать для этого необходимые условия. Только почему-то власть крайне выборочно кого-то хватает, а кого-то совсем не трогает. В данном случае такими же действующими лицами были пожарные, так как они тоже присоединились к спонтанно развивающемуся действию. Однако почему-то ни один пожарный, в отличие от других случайных участников действия, так и не стал подозреваемым.
— Ваши следующие одна за другой акции вызывают ощущение движения по нарастающей, все возрастающее понимание и поддержку у одной части общества и все большее отторжение у другой, большей его части. А ставите ли вы перед собой задачу воздействовать на общество? Увеличивать количество людей, понимающих и разделяющих вашу позицию? Или вы осознанно остаетесь непонятым одиночкой и обращаетесь напрямую к власти, ведете диалог с ней?
— У меня есть задача утверждения границ и форм политического искусства. Политическое искусство работает с системами представлений, а значит, с общественным пониманием. Но эта работа в искусстве с наборами кодов — далеко не то же самое, что забота о том, чтобы оказаться понятным некоему фантомному большинству. Потому что такая забота была бы банальным популизмом. А в процессе утверждения границ и форм политического искусства преимущество перед политической агитацией и рекламой в том, что время работает на искусство. И я уверен, что нас с фантомным большинством оно рассудит должным образом.
— Нам приходилось слышать совершенно библейскую историю о молодом следователе, который после разговоров с вами решил уйти из органов и стал адвокатом, — конечно же, такая история «обращения» производит очень сильное впечатление и вписывает вас в миф. Как это произошло?
— Очень просто. Он сильно устал от работы в юстиции и не хотел, чтобы беспредел со стороны власти по отношению к политическому искусству выполнялся его руками. В любом из слуг режима, несмотря на сильное вытеснение функций всего человеческого, все же человеческое сознание где-то остается. Оно подавлено, но не уничтожено окончательно, так как без него служащий не мог бы ориентироваться в социуме и принимать какие-либо решения. Он существует в расщепленном состоянии. И в нем между функциональным и человеческим остается разрыв. Вот этот разрыв как раз и становится последней возможностью для внутреннего восстания человеческого и для возможности его победы. Вот этим разрывом человеческое в бывшем следователе, а теперь адвокате Павле Ясмане как раз и воспользовалось.
— Вы прошли через несколько психиатрических освидетельствований и через продолжительное обследование в психбольнице; что вы можете после этого личного опыта сказать о практике применения психиатрии для усмирения несогласных? Она продолжает иметь место, как в советские времена? Что-то изменилось в сравнении с тем, что мы знаем из рассказов диссидентов?
— Нет, я думаю, что с психиатрией ситуация отлична от того, что происходило в советское время. По крайней мере, Институт психиатрии не сращен со структурой МВД. По поводу практики применения я могу сказать только, что меня полностью пытались изолировать от общения. Но благодаря поддержке других арестантов мне удалось этого частично избежать. Медикаментами меня не кололи, была пара конфликтов с сотрудниками, во время одного из которых мне пришлось баррикадироваться в изоляторе, а что касается патологизации всякого несоответствия идеологическим клише, то это будет ясно позже. Как только будет готово психиатрическое заключение, оно сможет должным образом продиагностировать состояние психиатрии в современной России.
В любом из слуг режима, несмотря на сильное вытеснение функций всего человеческого, все же человеческое сознание где-то остается.
— Вы живете достаточно аскетично, если верить рассказам, то отвергаете даже какие-то элементарные бытовые удобства. На практике воплощаете традиции, идущие из глубины русского революционного движения и классической литературы. Чем объясняется такая жизненная позиция? Вы исповедуете то, что проповедуете, — и это не может не вызывать уважения. А что вы проповедуете тем самым? В частности, чем объясняется ваше осознанное нежелание регистрировать ваши отношения с женой?
— Нет, никакой аскезы в существовании я не придерживаюсь и никогда не придерживался. Не надо путать аскетичность с нежеланием перегружать свою жизнь лишним хламом. Я думаю, что жизнь всего одна, и она слишком коротка, чтобы уподоблять ее жизни навьюченного осла. А относительно наших отношений с Оксаной — все дело в том, что мы просто презираем институт брака, семьи и супружеской верности. Мы пришли к данному решению, так как это одна из самых уродливых форм бюрократического искажения той дружбы и близости, которая может возникнуть между мужчиной и женщиной.
— У вас жена и две дочери. Насколько для вас художественное высказывание важнее возможности быть обычным семьянином? Что ваши дочери знают о ваших акциях — и, шире, как ваши родственники, родители и друзья относятся к вашей деятельности?
— У меня есть близкая подруга и двое детей, которых мы вместе воспитываем. Они — часть близкого круга, и дети, как и взрослые, знают об акциях все. Но, возможно, не все пока понимают. Меня поддерживают все, с кем я поддерживаю отношения.
— Когда группа «Война» устроила акцию «<***> в плену у ФСБ», у многих было эйфорическое ощущение приближающейся революции, которое вскоре сменилось разочарованием и апатией. Достаточно сказать, что большая часть самой группы «Война» теперь за границей. После вашей акции «Фиксация» Екатерина Дёготь сказала, что она восхищена силой этого художественного высказывания, но оно со всей очевидностью показывает, что надежды больше нет. И ей от этого становится страшно. А как вы думаете: что дальше? Что нас ждет? И чего нам ждать от вас?
— А я не знаю, что дальше. Что нас ждет, зависит только от того, что мы сделаем. Чего мне ждать от себя, я тоже сказать не могу, потому что дальше месяца ничего не планирую. По-моему, это совершенно бессмысленно.
Понравился материал? Помоги сайту!
 В разлуке
В разлуке