 Colta Specials
Colta SpecialsПодземелье
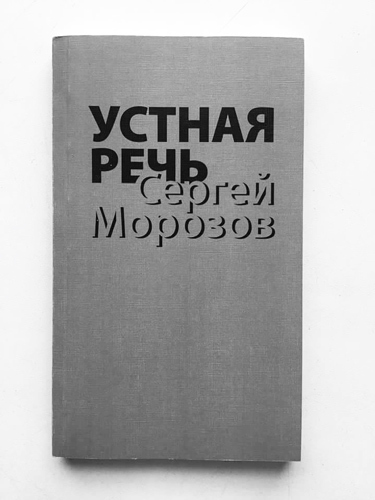 © Виртуальная галерея, 2018
© Виртуальная галерея, 2018«Устная речь», первое книжное представление наследия Сергея Морозова, трагически погибшего в 1985 году поэта, которое было собрано уже покойным Борисом Дубиным, — не просто представление большого дыхания запретной поэзии, бывшего тем сильнее, чем глуше и грубее была атмосфера жизни. Это исследование самой формы поэтического высказывания, которое уже может представительствовать за целую эпоху. Появление этой книги — вложение камня, которого не хватало в историческом знании русской поэзии ХХ века, зияюще не хватало, и сколь бы ни была поспешна и неуместна такая метафора в наши дни — как иначе объяснить то неизбывное чувство неполноты, которое оставляли в читателе прежние публикации наследия группы СМОГ и вообще потаенной поэзии.
О судьбе поэта, бессребреника, трезвенника, меланхолика в мире безысходности с запретом на преподавание и неудачей семейной жизни мы узнаем из предисловия. Борис Дубин, один из немногих друзей поэта, говорит про его «взнервленное оцепенение». Еще много раньше Ольга Седакова, собеседник поэта, в мемориальной «Элегии осенней воды» увидела в его наследии жар покаянного канона посреди заморозков. Сами эти образы говорят, что перед нами поэт, не движимый лейтмотивами, но, скорее, отдающий все лейтмотивы «на хранение» себе и истории.
Сергей Морозов мыслил не стихами, а книгами: в представленный сборник вошло несколько поэтических книг, и тем поразительнее, что строки, составившие славу Морозова, такие, как «Мертвый хватает живого…» или «Обратимся к устной речи…», принадлежат стихам, не включенным автором ни в одну из книг. Это экспромты, не находившие в книгах место, это реплики, еще не нашедшие своих диалогов и своих размышлений. Тогда как книга отличается тем, что стихи датированы и даты с эпиграфами — не просто стиль и тем более не стилизация под дневник или записную книжку: скорее, под бортовой журнал, всемирную хронику или даже медицинскую карту. Даты указывают на внетекстовую реальность, на то, что по-настоящему звук и смысл этих стихов укоренены в искомом целом, а не в прожитых частностях. Даты так же нужны, как другому поэту — жанровые обозначения или названия разделов: это указание на то, что какая-то часть ветхого мира, какой-то день будет сейчас преображаться. Такое вписывание стихов в необходимую рамку более общего переживания жизни — не менее «дело поэзии», чем создание новых ритмов или необычных образов.
Если читать стихи подряд, легко узнаются круг чтения и сонм великих теней поэта. Нельзя не вспомнить Блока, прочтя «забыв о доблести, о славе», и как не отметить политический памфлет «Пока заботой о прокорме…» как вариацию ахматовских ямбов, и невозможно не расслышать то Тарковского, то Есенина, то Пастернака — все эти цитаты, словесные и ритмические, вовсе не «играют», но, напротив, извлечены на поверхность, столь же несомненные, как окрик или тень. Цитаты — не ученичество и не диалог, а именно «вклад», то сокровище, которое опасно хранить, с которым еще опаснее расставаться, но за которым невозможно не вернуться.
 Сергей Морозов
Сергей МорозовСтихи (многие из них опубликованы впервые) позволяют увидеть стиль Морозова как держащийся на сравнении особого рода: не интерпретирующем, а указывающем на какие-то большие ошибки. Если для другого поэта сопоставление осени и книги — напоминание сразу о многом, от старости, смерти и Страшного суда до внимания к происхождению собственных чувств, то для Морозова — лишь повод сказать, что и тело, и память, и чувство могут ошибаться, а не ошибочной оказалась только ситуация, в которой все, происшедшее прежде, сделалось очевидным. Поэт пишет:
Как волос золотой, на книжный лист упавший,
Отыскивает сам нечаянно строку,
В которой виден след ошибки общей нашей,
И в памяти лицо твое устерегу
— и мы понимаем, что речь идет не о правилах прочтения книги судеб, а о том, что ошибка будет засчитана, даже когда у лирического повествователя уже ничего не осталось и беречь уже нечего.
Верность строю четверостиший — именно верность бедняка, но не напевная, как у Арсения Тарковского («...ничего не надо / нищете моей»), а, напротив, декламирующая, членораздельно обособляющая звуки, как в прописях или при программировании перфокартами, где важно ничего не напутать:
И весь из воздуха, и побратим ручью,
и горловою влагою озвучен,
лучом и кашкой луговой научен
медовым литерам, пчелиному литью.
Повторяющиеся «л» и «н», мягкость и даже некоторая кокетливость согласных ведут вовсе не к песенности, а, напротив, к постоянному спотыканию о строго проартикулированные глагольные формы, неожиданные перечисления, в которых нет ничего, заранее знакомого глазу или слуху.
Но Морозов — не сюрреалист, хотя и метафизик. В его стихах при всей изысканности обращений к природе, унаследованных от Пастернака, Заболоцкого и польских поэтов, прежде всего Лесмьяна, постоянно присутствует обращение к себе — но обращение, не приводящее в чувство, а, скорее, напоминающее о том, сколько в мире еще бесчувственности:
Разве словом что поправишь?
Я, пожалуй, помолчу.
На затяжку мне оставишь,
Больше сам не захочу.
У другого поэта это была бы саркастическая частушка, но у Морозова — меланхолическое переживание: сказать о многих вещах уже нечего, лучше подольше помолчать, а начнется ли движение — не от нас зависит. В этом смысле он близок таким поэтам, как Мария Петровых (переводчица Лесмьяна, заметим, и ее «мы начинали без заглавий…» — как раз и про снимавшиеся редакторской цензурой заглавия и даты), и отличается от петербургской метафизики, мечтавшей о том, что движение начнется хотя бы со дна, как в стихотворении «Ла Тур» Кривулина: «но за границей неподвижной сферы / движение еще возможно». Это не в укор — счастливы те, кто мог так сказать.
Просто элегизм в мире Морозова был бы сомнамбулическим, а саркастические эпиграммы — однообразными до боли. Его стиль — это постоянное переживание тоски и боли как кочующих от вещей к человеку и обратно, что до него было разве у Заболоцкого в сюжетных стихах:
Надсадный брёх соседской шавки,
телеэкрана вязкий зуд.
Вроде бы сатирическая картина, меланхолия, разве что слишком аутичная для соц-арта, но это «вязкий» невозможно в сатире, где сразу надо показать, кто и зачем завяз. Равно как и в элегии невозможен надсад: элегия надсадна сама по себе, и звуки для нее — материал, а не характеристика. Но такое выпадение из традиций производит незабываемое впечатление, как только мы перестаем сводить стихи Морозова к готовым образцам.
Именно такая «эйдетическая редукция» сразу открывает Морозова современному читателю. «Возврати мне память, скрытую между строк» — прежний читатель прочел бы сентиментально, подумав, будто речь идет о записной книжке. Но Морозов имел в виду, что память невозможно закрепить и тем более взять себе; напротив, ее надо скрывать, чтобы не потратить. Неотделимость от горечи не только траты, но и отказа от траты — тема уже нашей современности, травматической и все более печальной.
В историю литературы Морозов вошел сразу с выходом этой книги, только появившейся в продаже. Выход книги открыл нам всем, что движение СМОГ — не просто смелые образы, в чем-то наследующие Есенину, а в чем-то — западному символизму и сюрреализму, Бодлеру и Элюару. СМОГ — исследовательская лаборатория самой речи, того, насколько реплики, искренние вопросы складываются в большую поэтическую форму:
Когда хитришь, когда коришь,
Когда по правде говоришь,
Когда дуришь зевак…
— вроде бы присказки, но это одновременно «начало книги», которой и прилично открываться отчетом в том, где твоя речь укоризненна, а где — безукоризненна. Стихи Морозова — некий химический эксперимент, как при изменении температуры или освещенности; иначе говоря, при изменении подразумеваемого тона — укора, обличения или простой болтовни происходит реакция, обычные бытовые слова выглядят как сообщение о состоявшейся судьбе. Такие эксперименты тяжелы, и сам Морозов заплатил за них жизненными неудачами и изгнанием из реестра живых.
Что книга удалась именно в наши дни — знамение времени, когда уже нельзя надеяться на то, что самые бойкие изобретения в стихе куда-то вывезут. Как писал сам Морозов, поминая другого смогиста Леонида Губанова:
то можно и так: за пределы,
границы, из отчих темниц —
в заступники или при деле
таиться под шорох страниц.
Иначе говоря, стратегии прочтения перестают быть изобретательными: все равно ты остаешься только при своем деле. При деле внимательного чтения мы сейчас и остались.
С.П. Морозов. Устная речь. Избранные стихотворения. 1965—1985 / Сост. и предисл. Б. Дубина. — М.: Виртуальная галерея, 2018. 232 с. (Серия «Культурный слой»)
 Разбираетесь в искусстве XX века?
Разбираетесь в искусстве XX века?
Давайте проверим вас на птицах и арт-шарадах художника Егора Кошелева
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Журналистика: ревизия
Журналистика: ревизияРазговор с основательницей The Bell о журналистике «без выпученных глаз», хронической бедности в профессии и о том, как спасти все независимые медиа разом
29 ноября 202322565 Журналистика: ревизия
Журналистика: ревизияИзвестный публицист о проигранной борьбе за факт и о конце западноцентричной модели журналистики
17 ноября 202321465 Журналистика: ревизия
Журналистика: ревизияРазговор с главным редактором независимого медиа «Адвокатская улица». Точнее, два разговора: первый — пока проект, объявленный «иноагентом», работал. И второй — после того, как он не выдержал давления и закрылся
19 октября 202327391 Журналистика: ревизия
Журналистика: ревизияНи с теми, ни с этими. Известный журналист ищет пути между медийными лагерями и обвиняет оппозиционно-эмигрантский в предвзятости
10 октября 202344178 Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials