К юбилею Эрика Булатова — в этом году ему исполняется 85 лет — на родине художника, в Екатеринбурге, в Арт-галерее Ельцин Центра открылась необычная ретроспектива графических работ, большая часть которых никогда не выставлялась, — «Свобода есть». Кураторы выставки— Илья Шипиловских (Арт-галерея Ельцин Центра), Наталья Сидлина (Tate Modern) и Сергей Попов (Pop/off/art Gallery). COLTA.RU решила рассказать о выставке с трех сторон: мы расспросили самого художника, Наталью Сидлину и Сергея Попова, который представил после открытия свою новую монографию. К разговору присоединилась жена Эрика Булатова Наталья Годзина.
 Эрик Булатов на фоне портрета Всеволода Некрасова© Надя Плунгян
Эрик Булатов на фоне портрета Всеволода Некрасова© Надя Плунгян— Итак, это первая большая выставка графики, из которой ясно, что рисунок имеет для всей вашей работы решающее значение.
Эрик Булатов: Да, для меня рисунок является основой изобразительного искусства, необходимым фундаментом, на котором что-то может быть построено. Я считаю, что художник должен уметь рисовать, даже если он это умение не обязательно употребляет, но тем не менее уметь должен. Так что рисую я все время. И рисую с натуры, вопреки тому, что большинство художников сейчас считает, что это вообще бессмысленное дело, поскольку есть фотография. Но здесь для меня есть очень большая разница. Когда я рисую, я как бы овладеваю предметом, вступаю с ним в какие-то отношения. Когда я получаю фотографию — я отстраненно смотрю на то, что сфотографировалось, как в окно.
— А почему мысль о ретроспективной выставке рисунка возникла только сейчас?
Наталья Годзина: У нас так поставлено дело, и мы считаем это правильным — мы никогда нигде не предлагаем выставки Эрика. Если приходят и предлагают, значит, мы принимаем или отказываемся, но сами — никогда. Иначе идет постоянное давление на тему заказов и продаж, и это нехорошо, не очень красиво этически.
Булатов: Но вообще первая моя выставка в Третьяковке 2003 года была именно выставкой рисунка.
Годзина: Но она была очень небольшая, два маленьких зала. Рисунков 25—30.
Булатов: А в ретроспективе 2006 года — да, рисунков вообще не было, кроме иллюстраций. Конечно, ретроспектива рисунка — особое дело, организаторы очень рисковали. Больше 150 рисунков зрителям смотреть может быть очень скучно. Но они хорошо организовали пространство, разделили этапы моей работы. Я признателен всем, кто ее готовил, потому что делали с любовью и пониманием. А я очень беспокоился, казалось, что ничего хорошего не получится.
— Кроме всего прочего, здесь множество редких и неожиданных работ. Например — вот что за вещь «Шостакович» 1963 года?
Булатов: Она именно о музыке, как с человеком, я с Шостаковичем не был знаком. Это мой любимый композитор. Он единственный действительно выражал самую сущность нашей жизни, нашей трагедии, он как будто все время говорил обо мне — и даже от моего имени. И поэтому он был единственным, кому я завидовал по-настоящему. Я бы тоже так хотел, но я не могу, а он может. Это отношение к музыке Шостаковича я и пытался тогда выразить, но картина не получилась, и я бросил. Остался этот эскиз, остальные я уничтожил.
 Фрагмент экспозиции. Абстрактные рисунки 1960-х годов. Самая правая работа — «Шостакович», 1963© Надя Плунгян
Фрагмент экспозиции. Абстрактные рисунки 1960-х годов. Самая правая работа — «Шостакович», 1963© Надя Плунгян— Выставка показывает, что в начале вашей работы стоит острый, наблюдательный академический рисунок. На что вы опирались? За ним ощутимо стоит какая-то традиция. Знакомство с Фаворским, Фальком, как мне показалось, произошло на следующем этапе.
Булатов: Ну, академическое рисование… Это просто анализ, исследование натуры... Учителя как раз были очень плохие.
— Плохие?
Булатов: Ну как вам сказать… Например, профессор по живописи Покаржевский… Я ни к кому из педагогов не относился плохо, никто ко мне не относился плохо. Но я все время видел, что то, чему меня учат, — это не искусство, это ремесло.
Видите ли, последние годы жизни Сталина, как раз когда я кончал школу и поступал в институт, были самыми тяжелыми. Для культуры это просто была катастрофа. С 1947—1948 года начался последний разгром искусства, когда из института выгнали большинство профессоров, в том числе Дейнеку и Кончаловского, и на их место взяли каких-то (пауза)… Директором стал вместо Сергея Герасимова Модоров и так далее. Но сразу после смерти Сталина жизнь стала меняться. Хлынула информация о том, что делается в искусстве за пределами страны, прошли выставки французской книги, американского искусства. Наконец-то открылся Пушкинский музей, и там появились импрессионисты. В общем, это можно было все-таки считать революцией.
И вот тогда у меня и возникла идея выгнать этих профессоров и вернуть тех, которых выгнали тогда. Но дальше ничего из этого не вышло. На меня все, конечно, обиделись. Я понимаю. Всем профессорам, которые меня любили, было непонятно, чего мне от них надо.
 Петр Покаржевский. Красный дозор. 1923© Музей современной истории России
Петр Покаржевский. Красный дозор. 1923© Музей современной истории России— То есть вы в самом конце все-таки открыто выступили против них.
Годзина: Дело в том, что он как бы… возглавил это движение.
— И что, ничего не получилось?
Булатов: Получилось, что меня лишили диплома с отличием, но все-таки диплом мне дали. Хотели выгнать, но все-таки не выгнали из института, дали окончить. Вот и все. Ведь я был там первым студентом, получал Ленинскую стипендию. После поездки в Индию я сделал несколько картин, которые имели успех, их выставляли на Кузнецком Мосту, и две из них приобрела какая-то комиссия... Вот тогда я действительно очень много рисовал…
— Но был ли все-таки учитель именно рисунка?
Булатов: Был такой Курилко. Вот он действительно учил рисовать.
— Михаил Курилко? Да, конечно... Неоакадемик-офортист. Вот это действительно ответ на мой вопрос.
 Михаил Курилко. Кровь сыновей. 1922. Пергамент, цветная сангина© Российская академия художеств
Михаил Курилко. Кровь сыновей. 1922. Пергамент, цветная сангина© Российская академия художествБулатов: И все-таки многое зависело от того, насколько ты хочешь научиться рисовать. Для большинства студентов, как выяснилось, искусство не имело значения. Важно получить бумажку, что у тебя высшее образование: дальше ты автоматически попадал в какой-то провинциальный союз художников, чтобы там сделать карьеру.
Но я действительно старался рисовать и рисовал очень много — оставался после института, пользовался возможностью получить бесплатную натуру. Все, что можно было, я делал.
У нас был специальный кружок, который назывался «Научное рисование», им руководил как раз Курилко. Научно не научно, но когда человек действительно рисует несколько лет по несколько часов в день, если он не болтает, не валяет дурака — он научится.
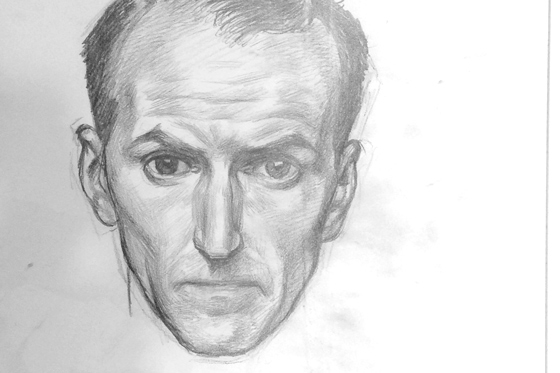 Эрик Булатов. Автопортрет. Фрагмент© Надя Плунгян
Эрик Булатов. Автопортрет. Фрагмент© Надя Плунгян— Из выставки ясно, что и сочетание шрифта и рисунка тоже появилось у вас довольно давно, еще до знакомства с Фаворским.
Булатов: Да, это не имеет отношения абсолютно к Фаворскому. Только к советской реальности, которая меня окружала. Как раньше у меня было прямое взаимодействие с натурой, здесь это было прямым взаимодействием с элементарной советской реальностью, которая меня окружала, когда на каждом шагу было написано «Вход» или «Нет входа», «Стойте справа, проходите слева» или там «Слава КПСС». Все наше пространство было наполнено этими буквами, и они все были абсолютно одного характера.
Собственно, именно это я и хотел выразить, и даже в институте я уже немножко начал осваивать этот шрифт. Меня попросил помочь один парень, который подрабатывал тем, что писал в клубе эти лозунги. Нужно было очень быстро, самыми элементарными движениями писать текст — вертикаль, горизонталь — белым по красному полю. Казалось, что этот шрифт — самое простое, самое примитивное, что можно придумать. Другое дело, что потом уже я понял, что этот шрифт на самом деле получен в наследство от наших конструктивистов, от художников 1920-х годов.
 Фрагмент экспозиции. Графические серии, созданные в Индии в 1950-х гг.© Надя Плунгян
Фрагмент экспозиции. Графические серии, созданные в Индии в 1950-х гг.© Надя Плунгян— Скажите несколько слов о своей скульптуре.
Булатов: Просто этап моей работы над картиной, не более того. Все мои скульптуры плоские. Когда вы стоите в середине круга, вас окружает непрерывная красная плоскость, потому что на каждую букву вы смотрите анфас. Вы видите только красный, которым выкрашена лицевая сторона всех букв, а черные толщины, глубины — их вы не воспринимаете, они кажутся частью пространства.
 Эрик Булатов. Вперед. 2016. Вид скульптуры на террасе Tate Modern© Tate Modern
Эрик Булатов. Вперед. 2016. Вид скульптуры на террасе Tate Modern© Tate Modern— Но все-таки это трехмерное произведение.
Булатов: В сущности, дело в том, что картина — это реальная плоская поверхность, только вертикальная. Плоскость реальна и конкретна, а пространство, которое мы достраиваем по одну или другую сторону от этой поверхности, — оно всегда воображаемое. В данном случае вот эта поверхность помещается в реальности, вот в чем разница. Это и есть для меня следующий этап, потому что я всегда старался как можно больше связать пространство зрителя с пространством картины, чтобы он мог прямо в нее войти. Как оказалось, когда связываешь эту плоскость с реальным пространством, реальная возможность войти действительно появляется.
 Фрагмент экспозиции. Серия «Входа нет»© Надя Плунгян
Фрагмент экспозиции. Серия «Входа нет»© Надя Плунгян— Интересно, что эти последние работы получились очень современными и даже в чем-то отражают российскую ситуацию, по крайней мере, для моего поколения: хотя они создают глухую стену, в которую зритель упирается и не может дальше пройти, какой-то выход содержится в самой архитектуре букв.
Булатов: Так получилось, что я попал по приглашению Андрея Молодкина на заброшенный металлургический завод XIX века. На выставке есть фотография, по которой вы можете себе представить его внутреннее пространство. Оно какое-то трагичное, страшно напряженное, очень выразительное. И как бы небезнадежное из-за трансформации, которую оно сейчас проходит, видимо, как-то превращаясь из фабрики в культурный центр.
Но все это напряжение есть, и что-то оно так на меня подействовало… Мне показалось, что это настолько похоже на сегодняшнюю реальность, на эту жизнь европейскую и русскую, что какая-то возникла потребность это выразить. И вот тут и начались эти буквы.
— Как вы видите сегодня основной поток эпохи, который создает давление?
Булатов: Вот это я, пожалуй, не возьмусь точно определить, потому что просто чувствую какие-то вещи... В России, конечно, есть очень серьезная опасность возврата к тому, что смертоносно для нашей жизни и особенно для культуры. Это просто катастрофа, финиш. Напряжение здесь в том, что при явном сопротивлении этому возврату есть тенденция именно идеализировать прошлое, стремиться к нему.
Это ощущение я как раз и выражал в картине «Вперед». Идя все время вперед, в конце концов оказываешься далеко позади.
Ну и, с другой стороны, на Западе ощутима какая-то вот эта мрачная злоба антирусской кампании. В советское время это меня прямо касалось, сейчас меня это как бы не касается. Но я же русский художник и от этого не могу и не хочу отказываться. Даже если бы хотел, я бы это не смог сделать. Мое сознание сформировано русской культурой, тут никуда не денешься. Поэтому я все время как бы стою в этой позиции и стараюсь ее отстаивать. Но это сейчас все-таки непросто.
 Эрик Булатов© Надя Плунгян
Эрик Булатов© Надя ПлунгянГодзина: Я могу рассказать один случай. Мы были на заводе, где производят эти огромные буквы, и шеф производства, который устанавливал «Вперед», с удивлением рассказывал: «Смотрите, буквы “ВПЕРЕД, ВПЕРЕД, ВПЕРЕД” так близко нас обступают и так тесно стоят, но дети сквозь них пролезали. Значит, они и найдут выход».
Булатов: Все-таки в России что-то происходит, постепенно проступает человеческая активность, хотя ее тоже не очень-то и поддерживают. Ну что делать, если сознание совершенно изувечено. Действительно же к концу жизни Сталина здесь сознание людей было примерно таким же, как в XVI веке, при Иване Грозном. Единственный человек, который имел какие-то человеческие права и вообще права, был Сталин. Единственный. Не какой-нибудь маршал, не какой-нибудь партийный... каждый мог быть уничтожен в любой момент. В любой момент его можно было арестовать и расстрелять. К любому человеку в любой момент могла войти милиция и посмотреть, что он там делает у себя дома.
Но XVI век — это не шуточки, чтобы за несколько лет возродить национальный менталитет. Необходима ежедневная работа с сознанием людей. Не на озлобление, не на разрыв... В общем, трудная ситуация. И все же видно, что существует так или иначе активная потребность во внешней информации. Пока еще границы открыты, не может быть никакого возврата, это исключено. Поэтому все время есть надежда. Все-таки все не так страшно.
Страшно, конечно, я понимаю, но все-таки небезнадежно.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ

 Два мела на голубой бумаге
Два мела на голубой бумаге Штрихкод березовой рощи и щебет искусственных птиц
Штрихкод березовой рощи и щебет искусственных птиц Против иллюстрации
Против иллюстрации «То я грустная дельфинья дева, то вечная невеста, то суперзвезда Стелла»
«То я грустная дельфинья дева, то вечная невеста, то суперзвезда Стелла» «Третья идея», икс-фактор и арт-житие академика Сахарова
«Третья идея», икс-фактор и арт-житие академика Сахарова «В обломках ярче и громче голос умолчания»
«В обломках ярче и громче голос умолчания» Собакистан
Собакистан Панк-музеефикация им. электрика Карабутова
Панк-музеефикация им. электрика Карабутова Голубые роги под пролетарской маской
Голубые роги под пролетарской маской Откуда взялись зины: от изображения к тексту и обратно
Откуда взялись зины: от изображения к тексту и обратно «Волга больна, вылечить ее мы не можем, но можем “прослушать” ее шумы и крики...»
«Волга больна, вылечить ее мы не можем, но можем “прослушать” ее шумы и крики...» «Зоологические грезы» Алины Дружаевой превращаются в книгу
«Зоологические грезы» Алины Дружаевой превращаются в книгу


































