Переход на Калужско-Рижскую линию

Контрабандный суматранский попугай, Георгий Иванов о летнем времени и чем отличается Маша Гессен от Максима Ковальского — в редакционных дневниках COLTA.RU
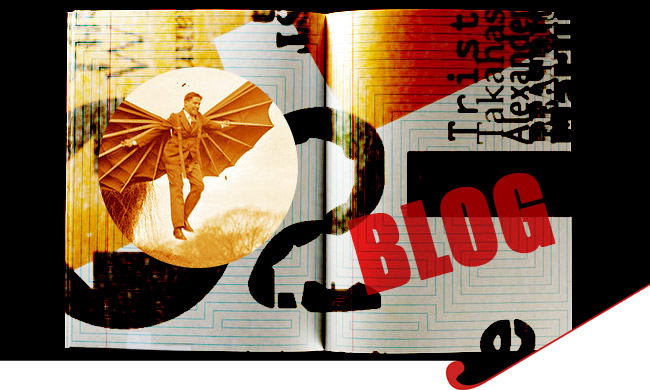
Марина ДАВЫДОВА

Дня два назад прочитала в топ-новостях «Яндекса», что очередной «Марш миллионов» будет проведен в декабре. Ну вот почему, почему опять «Марш миллионов»? Откуда взялось это чудесное название? И когда оно наконец куда-нибудь денется? Я уже не говорю о том, что только ленивый путиноид и только очень добрый консерватор не укажут на несоответствие пальцем — какие, к черту, миллионы, тут каждая тыща демонстрантов на счету. Но дело даже не в насмешках. Сама логика «нас тьмы, и тьмы, и тьмы» означает, что протестное движение упорно хочет осознавать себя как движение большинства. И это какая-то инерция мышления. Вредная мысль, что большинство всегда право, давно опровергнута всем ходом истории. В нашем случае она еще и смехотворна, потому что в конкретной российской ситуации большинству просто на все наплевать. Большинству было наплевать и на ввод войск в Чехословакию, и на Афганскую войну. И на многое другое. Мы сейчас победу над Наполеоном праздновать собираемся. Так что замечу a propos, что большинству людей, проживавших в российской глубинке далеко от западных границ России, и на войну с Наполеоном тоже было наплевать. А оторванное от интернета и прикованное к зомбоящику большинство сейчас понимает истинное положение дел в стране примерно как живущие в глубинке русские крестьяне начала XIX века.
Мысль о просвещении большинства меня вдохновляет. Но лишь в очень дальней перспективе. В короткой она ничего не принесет. И что, отказаться от самой идеи протеста? С чего бы вдруг? Пусть большинству все равно, что в стране процветает басманное правосудие, просвещенному меньшинству это небезразлично. Пусть большинству по барабану пресловутая свобода слова, меньшинству она необходима. Большинство не волнует, что работать учителем общеобразовательной школы сейчас уже, похоже, выгоднее, чем быть профессором университета, а меньшинство, получившее высшее образование и зачастую трудящееся в сфере образования, — волнует.
В конце концов, цивилизованная страна не та, в которой все решает большинство, а та, в которой соблюдаются права меньшинств. Просто пора открыто заявить и окружающим, и себе самим, что мы — меньшинство. Но очень важное меньшинство, без которого народ немедленно превратится в население. И самое нелепое, но по сути точное название вроде «Движение образованного сословия» имело бы в этой ситуации больше смысла, чем «марш» неизвестно откуда взявшихся и неизвестно куда шагающих «миллионов».
Глеб МОРЕВ

Я сплю еще, когда с рабочими
Под звук медлительный гудка
Идешь ты в порт и, озабоченный,
Не замечаешь ветерка.
Цитирую по памяти — потому что лет тридцать назад сразу и, как выясняется, надолго запомнил этот кокетливый катрен раннего Георгия Иванова по цитате в советских воспоминаниях Рюрика Ивнева. Там он иллюстрировал — и небезосновательно! — идейную ущербность и сомнительный моральный облик последней петербургской поэтической богемы.
Теперь понятно, что это стихи про летнее время. Или, если угодно, зимнее. В общем, про тех, кто поздно встает и поздно ложится. И наоборот.
Огромное, пишут, большинство жителей России не может смириться с медведевским законом об отмене зимнего времени, который я так полюбил. Ведь он дает мне лишний час света, удлиняя катастрофически короткий московский зимний день. А идущему с рабочими в порт этот час света нужнее, наверное, утром. Неприятно только, что за зимнее время активнее всех борется почему-то ЛДПР с подтянувшейся «Единой Россией». По всему выходит, что с механосборщиком Холманских у нас, увы, подлинно астрономические разногласия.
Денис БОЯРИНОВ

В продолжение Gay Day на COLTA.RU. Побывал в Калининграде на заключительной в этом году сессии передвижного фестиваля Red Rocks, где зарубежными хедлайнерами были нью-йоркские диско-плясуны Scissor Sisters, три участника которых (из пяти) — открытые геи. За день до этого SS отбомбили концерт в Москве, где представили свой новейший альбом «Magic Hour», — в неполном зале клуба Stadium был замечен даже один радужный флаг. Крещенная в православии фронтвумен SS Ана Матроник, которой не дают покоя ее славянские корни, обратилась к московской публике с чем-то вроде воззвания: «Помните, что страна — это не президент и правительство, страна — это вы, люди, в ней живущие. Используйте свои голоса, руки и тела, чтобы заявить о своих правах на эту страну. А мы, группа Scissor Sisters, всегда вам поможем!»
В Калининграде гей-диско-бэнд обошелся без каких-либо обращений к публике, впрочем, как и без фирменных баллад. Только танцы — да и температура вечернего воздуха не позволяла долго стоять на месте. Впрочем, уже сам факт выступления на городской площади расслабленных нью-йоркских жителей, призывающих have a kiki — то есть устроить вечеринку на сленге американских травести-див, выглядит актом проявления невероятной свободы нравов и сексуального просвещения по нынешним неофундаменталистским временам. «А вы знаете, что “scissor sisters” — это такая поза у лесбиянок?» — спросил нас таксист, встречавший группу журналистов в калининградском аэропорту.

Scissor Sisters показывают Калининграду, что такое кики
Scissor Sisters крепко раздумывали, возвращаться ли им в Россию, — они хорошо осведомлены о том, что у нас происходит. С февраля, когда они должны были выступить в Красной Поляне перед фотоаппаратом Дмитрия Медведева, многое изменилось. Аккурат перед гастролью фронтмен группы Джейк Ширз принял участие в ролике в поддержку Pussy Riot, инициированном панк-певицей Peaches, — блеснул колготками и ягодицами (внимание к отметке 01:33). За советом Ширз позвонил старому знакомому и гуру Элтону Джону.
Элтон Джон сказал: «Надо ехать».
Василий КОРЕЦКИЙ

С радостным удивлением обнаружил, что прекрасный ресурс, посвященный японскому кино, Midnight Eye, почти год пребывавший в запустении, воспрял и снова публикует познавательные заметки — про первую кинозвезду японского происхождения, например, или про киберпанк (который, как утверждается, все еще жив), или вот материал о приключениях японского продюсера в Северной Корее 90-х. В продолжение японской темы попытался посмотреть фильм Кодзи Вакамацу про Мисиму (на самом деле — про историю правых студенческих группировок в Японии). Надо отдать режиссеру должное — правые тут выглядят такими же самовлюбленными идиотами, как и левые в его предыдущих фильмах, только место секса в их жизни занимает военная подготовка. Преувеличенная ритуальность мимики и жестов персонажей усугубляет ощущение безумия — все время представлял на месте Мисимы активиста Цорионова.
Не досмотрев «Мисиму», вышел в магазин за молоком и по дороге немедленно столкнулся с каким-то районным православным активистом — семинаристский хаер, ободок, форменная футболка с перечислением атрибутов Богородицы, скинни-джинсы. Хипстер Божий.
Станислав ЛЬВОВСКИЙ

Российская академия народного хозяйства и государственной службы размещается на Юго-Западе. Здания во вкусе советских все еще восьмидесятых — вот второй корпус взять: атриум с огромной люстрой из «Альтиста Данилова», лестницы белого камня, ковры, наконец. В общем, югославский дизайн, кто понимает. Последнее слово, нечаянно оказавшееся действительно последним. Все это — малоэтажное, впрочем, — великолепие размещается в тени циклопического заброшенного «Зенита» с выбитыми зелеными стеклами, спасибо академику Аганбегяну и архитектору Белопольскому. Но это я отвлекся. А дело в том, что на втором этаже второго корпуса этой самой РАНХиГС обнаружилось по соседству с компьютерными классами машбюро.
Я понимаю, что там, наверное, что-нибудь уже совершенно другое. Но хочется думать, что вот заходишь — и открывается перед тобою такой уходящий в далекую утреннюю перспективу советский open space. Деревянные столы, электрические пишущие машинки «Ятрань». Ну ладно, «Оптима», тоже нормально. И девушки — с короткими прическами, в сравнительно скромных твидовых юбках миди.
Черно-белые.
Ладно. Пускай не черно-белые; семидесятые на дворе. Но такие выцветшие, что ли, слегка.
Заходить проверять не стал, разумеется. А вы бы стали? Вот и я думаю.
***
Тут, как известно, российскую книжную индустрию постигла очередная катастрофа. Я, в общем, даже почти не иронизирую, есть некоторое ощущение конца света. И то: зашел сегодня в магазин (признанный тут на днях одним из лучших книжных Москвы, там у них даже и от самой «Афиши» в этом смысле наклеечка на дверях), купил четыре книжки. 2430 рублей, я хочу сказать.
То ли вот в связи с предсказанным апокалипсисом («“Полезная вещь — радио”, — сказал Роман»), а то ли просто от общей тревоги другой книжный решил как-то, ну, подстраховаться, что ли, не знаю.
Бог их знает, может, и не подстраховаться, а просто действительно хорошие люди там живут и работают. Потому как во время предыдущего визита при входе было замечено объявление такого (примерно) содержания: «Жако — суматранский попугай. Его привезли в Россию контрабандой. Он много страдал. Но теперь он обрел дом в магазине NN, здесь его любят и заботятся о нем». В общем, скорее, действительно — просто люди хорошие. Но «хороший человек» — не профессия, поэтому лучшим в Москве магазин NN не считается.
Возможно, впрочем, потому только, что касса у них одна, и к ней всегда очередь. А я как-то однажды решил для себя, что отпущенный на одну жизнь километраж очередей отстоял уже — до января 1992, если я правильно помню, года. И с тех пор в них стою только в совсем, совсем крайних случаях.
***
Ну и чтобы не заканчивать на минорной ноте — старый, но актуальный поэтический видеоролик Джона Джиорно «Просто скажи семейным ценностям “нет”». Гран-при берлинского фестиваля видеопоэзии ZEBRA 2008 года. По-английски, увы, но дикция у Джиорно прекрасная.
Екатерина БИРЮКОВА

Сезон в этом году начался роскошно. И Баренбойм с Ла Скала, и Аббадо с Люцерном, и фестиваль РНО, и мировая премьера современной оперы Невского, и вот-вот — концертное исполнение несовременной оперы Доницетти. И тут я понимаю, что еще ни разу в этом прекрасно начавшемся сезоне я не была в главном зале столицы — БЗК. И даже не знаю, когда буду. Ничто туда не манит. Присланная на октябрь программа ошарашивает своей абсурдностью. Конечно, радует присутствие в ней Найджела Кеннеди, все-таки скрипач с ирокезом, большая редкость. Но в принципе — позорище. Программы, на которых останавливается глаз просто из-за неожиданности: Ханчжоуский филармонический оркестр Китая, дирижер Чжан Гоюн; Сяменский филармонический оркестр Китая, дирижер Чжэн Сяоин; программа под названием «Еще…» с иранской классической музыкой (инструменты — каманче, сантур, тар, уд, томбак); оркестр Павла Когана играет музыку Нино Роты; хор Московской филармонии поет песни Соловьева-Седого, Фрадкина, Френкеля, Бабаджаняна и других прекрасных композиторов. Еще студенческими силами дают «Евгения Онегина» и «Травиату». За мировую элиту отвечает Юровский с Детским хором ЮНЕСКО (тут его Госоркестр живет на птичьих правах, надо как-то выкручиваться), за просветительство — интеллигентный фестиваль «Дебюсси и его время».
Нет, я не против музыки народов мира, молодежи и советской песни, но это же один из самых знаменитых залов мира, гордость, сокровище и элитная площадка вроде Музикферайна в Вене и Концертгебау в Амстердаме! Таких раз-два и обчелся! Тут Баренбойм должен толкаться с Аббадо! Какие советские песни, какие Чжан Гоюн и Чжэн Сяоин? Что происходит с нашей консерваторией?!
А еще есть другой сюжет — не Большой зал консерватории, а Малый. Тоже жемчужина и легенда. Туда я за отчетный период сходила один раз — на сольный концерт прекрасного молодого пианиста Вадима Холоденко. И дело даже не в том, что пианист прекрасный, а зал заполнен на треть — у консерватории какая-то беда с рекламой. Но самое дикое, что у нее еще беда с мебелью. Кресла скрипят просто как-то неправдоподобно — при каждом движении слушательской задницы. И кажется, все громче и громче с каждым годом! Это давно известный факт и вроде как смешной. Но на самом деле совсем не смешной — стулья-то можно смазать или поменять? Что происходит с нашей консерваторией?!
Варвара БАБИЦКАЯ

Сезонные миграции: смена редакций, переезд на другую квартиру. Запертый двор с маленьким фонтаном, стоит гипсовый амур и плавает резиновая уточка, валяются детские велосипеды. Была представлена старшей по подъезду Татьяне Васильевне и ее лучшей подруге Ксении Дмитриевне (которая живет со мной дверь в дверь). Пока Татьяна Васильевна, не принимая возражений, потчевала меня грибной икрой, перцовкой и эскимо, Ксения Дмитриевна зачитывала историю дома с 1928 года, включая демографическую статистику и точное число репрессированных. Это было невероятно мило. Позже мне пришло в голову, что эта добрососедская идиллия имеет изнанку в смысле выпроваживания чуваков с утра или ночных пикников на лавочке (которая так и манит). Как бы мне тогда не заскучать по демократической анонимности и всеприятию улицы Шверника, где по вечерам поют девчата хором, причем я вызываю милицию, а сосед снизу шмаляет в них через окно из пугача — и все довольны, никакого морального осуждения. Не то чтобы соседи там любили друг друга черненькими — но сосуществовать-то надо; сосед, который когда-то держал наркопритон и его на моих глазах выводили в наручниках, мирно катает коляску в том же дворе, и бабушки делают козу.
С этим связано выражение, употребительное среди засадовых и обычно непонятное жителям ЦАО: «выйти в город». «Во вторник я выберусь в город, заодно и заскочу». Причем надо мне, допустим, на Чистые пруды, а заскочить я собираюсь на Смоленскую — это неважно: для милого дружка семь верст не околица, тут дело не в расстоянии.
Дело в том, что на улице Шверника моя зона комфорта, по которой я могу ходить в пижаме, заканчивается где-то у метро (в ЦАО — за порогом квартиры). Выйти в город значит нарядиться, миновать зеленые дворы, сапожника, который издали видит, что мне пора менять набойки, ярмарку меда, кришнаитов, спуститься в метро и возродиться, пройдя под землей, как бог Ра, в каком-то совсем другом месте, по видимости классово близком, но требующем постоянного напряжения и концентрации, чтобы не затоптали и полюбили. Вот это ужасно утомляет в Мск: тебя непрерывно должны любить. Да с какой стати вообще-то — я ж не гривенник.
***
Московское общество рвет и мечет в Фейсбуке по поводу назначения Маши Гессен на пост директора Русской службы «Радио Свобода» и увольнения всей интернет-редакции «без объявления войны». «Что станет говорить княгиня Марья Алексевна», было известно заранее; вместо понятного в таких случаях сожаления преданных читателей прежней редакции — риторические вопросы предположительным сменщикам: приятно ли вам будет работать в зачищенной под вас редакции? Каково будет сидеться на чужом неостывшем стуле? «Вас детский плач не мучил никогда?» Мне таких вопросов не задавали, хотя могли бы — я работала с Гессен уже в двух изданиях и вперед не зарекаюсь. Параллельно с этим я работаю на COLTA.RU — бывшем OpenSpace.ru — и, как вся редакция, недавно оказалась в положении невесты без места. В ходе того, нашего медиасрача я начинала прямо хуже относиться к людям, позволявшим себе делать какие-то морально-этические предъявы Максиму Ковальскому. Но в конечном счете мне почти всегда удавалось их переубедить — а вот с Машей Гессен история другая. Во-первых, Максим Ковальский испытывал по поводу всей этой ситуации нравственный дискомфорт, как испытали бы многие из нас, понимая, что рациональных причин для этого нет: я не спрашивала Машу Гессен, но она ни о чем таком не заявляла. Не разоружалась перед партией. Во-вторых, что важнее, Москва любит Максима Ковальского и не хотела на него сердиться; он, судя по всему, действительно хороший человек — но главное, таков он в глазах общественного мнения. А Гессен Москва не любит. Гессен не умеет себя вести. Мы зато умеем!
В поселке Мстера, где я в детстве жила летом, всегда были вишневые сады. Там цветет мощная народная традиция чаепития с вареньем внакладку. Пьешь сладкий чай и вишни вылавливаешь ложечкой. Так вот, хороший тон настоящего куртуазного мстеряка требует, чтобы человек, чаевничая в гостях, вишневые косточки сплевывал обратно в свою чашку. Я не посягаю на этикет — но мне дико, когда его путают с этикой.
Юлия ЛЮБИМОВА

Ловишь себя временами на странных предрассудках. Для меня любая земля, которая не чернозем, — вроде как не вполне земля, и я даже немного удивляюсь, когда на подмосковной глине что-то буйно растет.
У меня полторы родины. Москва, где я родилась и прожила всю жизнь, — к которой у меня сложная любовь-ненависть, и тамбовская деревня Козьмадемьяновка (в советском именовании Красная Криуша; я в детстве думала, что народное название, которое все употребляли, — Космодемьяновка — в честь Зои Космодемьянской: вот тоже пример обратной этимологии от советского ребенка), в которой я проводила каждое лето своего детства.
Деревня еще во времена моего отца была большой и многолюдной, а безымянная речка (наверно, у нее есть название, но я его никогда не слышала) по весне разливалась чуть не до самых домов, затапливая огороды. Да чего отца, еще в мои подростковые годы к клубу «на улицу» приходили женихаться пара десятков парней и девок, а речка хоть и была больше похожа на илистый ручей, бабушка моя, в панталонах до колен, еще в ней в жару с детворой купалась.
Теперь речки нет. Высохла окончательно два года назад. Домá, где еще кто-то живет, — как зубы стариков: через один, а то и через три. Бабки моего детства, певшие песни под гармошку вечерами на соседней улице, поумирали. Витальные молодцы, подъезжавшие к клубу на мотоциклах в доказательство своей мужской состоятельности, на этих мотоциклах спьяну же и побились, спьяну угорели в закрытой избе, спьяну что-то украли и сели, подрались до членовредительства и сели, просто спились — и лежат теперь на красивом, спокойном местном кладбище среди бабок и деревьев.
Только муж моей подруги детства Светки, всю жизнь работающей за десятерых, лучшей хозяйки деревни, — настоящий русский богатырь Славка хоть тоже выпить не дурак, но жив и здравствует. Да Лешка-Холяк, про которого я еще 20 лет назад думала, что он вот-вот помрет где-нибудь в канаве, еще каким-то чудом жив и бредет зигзагом к себе на бугор за бывшей речкой, где больше никто, кроме него, не живет. В прошлом году было замерз насмерть — валялся в сугробе за магазином, только ноги торчали, да кто-то сердобольный его откопал.
И дед мой жив. Ему 89, он инвалид войны без ноги, со смерти бабушки живет один и еще гоняет на своей инвалидной «Оке» в город. Но он из другого, более раннего эпоса.
Мне кажется, что это один из самых непутевых наших регионов (может, потому что я ни в каком другом не жила). Бедный, пьяный, кривой (Криуша же). Но когда я ищу в памяти место абсолютного покоя, я представляю себе ту самую речку, которой больше нет, воду, бесшумно полощущую розоватые корни какой-то травы в тени у невесть откуда притащенного железного моста, бывшего речушке совсем не по ранжиру. И душистые, выжженные солнцем июльские луга, на которых в полдень, куда ни смотри, ни человека — только привязанные коровы.
Приеду к деду, сяду на порог покосившейся, облупленной терраски — и вот он, покой. И тяжелый, жирный чернозем, в котором в дождь увязает все, что не трактор, включая и твои собственные галоши, — это единственная правильная земля.
Но больше недели (да что там, трех дней) этого вожделенного покоя мой шебутной московский мозг вынести не может. Сложно устроена любовь.
-
18 сентябряМайк Фиггис представит в Москве «Новое британское кино» В Петербурге готовится слияние оркестров Петербургская консерватория против объединения с Мариинкой Новую Голландию закрыли на ремонт РАН подает в суд на авторов клеветнического фильма Акцию «РокУзник» поддержал Юрий Шевчук
Кино
Искусство
Современная музыка
Академическая музыка
Литература
Театр
Медиа
Общество
Colta Specials


