 Colta Specials
Colta SpecialsПодземелье
 Илья Фальковский
Илья Фальковский6 июля в клубе «Вермель» состоится совместный концерт группы «Ленина пакет» и группы ПГ в честь 20-летия со дня выхода кассеты группы ПГ «Рэп 2000». Впрочем, 20-летие отмечает не только кассета, но и сама группа ПГ — арт-объединение, которое последовательно избегало какой-либо четкой самоидентификации, выбивая при этом 10 из 10 очков в каждой из своих ипостасей. Как художники, они получили Премию Кандинского, под песни их проекта — поп-группы «Двери» приплясывала вся московская богема нулевых, выпущенный ими самиздат стал образцом для подражания среди новомодной DIY-тусовки, а ту самую кассету «Рэп 2000» признают за инкунабулу концептуального русского рэпа. С идеологом группы ПГ — литератором и художником Ильей Фальковским поговорил его старый товарищ — издатель Михаил Котомин (Ad Marginem).
— Илья, тебя довольно давно не было видно в Москве. Расскажи, почему тебя не было видно и вообще чем ты занимался эти 20 лет.
— Я живу в Китае, работаю в университете, преподаю русский язык и культуру. Ну и поэтому в Москве бываю наездами.
— Когда ты туда уехал?
— Ну, в принципе, впервые я там надолго поселился лет двенадцать назад, но постоянно живу последние лет пять.

— Слушай-ка, а с чем связан твой камбэк? Группа ПГ занималась художественной деятельностью, самиздатом, активизмом, музыкой. Что конкретно из всего облака деятельности ПГ мы празднуем? Мы празднуем 20 лет со дня выхода кассеты «Рэп 2000», правильно?
— Что касается возвращения — на самом деле я никуда и не уезжал. Я же не эмигрант, просто работаю там. Работаю в университете, у нас долгие каникулы зимние и летние, то есть я провожу из 12 месяцев в году около пяти в России. Поэтому это нельзя, конечно, назвать настоящим отъездом. Это хорошо, мне нравится быть таким говном в проруби, точкой в пространстве — не здесь и не там. Приятно не иметь социальных связей, болтаться так вольготно, свободно. Мне никогда не нравилась какая-то привязанность к одному месту во времени и пространстве. Тут есть возможность быть между двух миров, абсолютно инопланетных по отношению друг к другу. Китай — это совсем другой мир. Находясь там 12 лет, я пишу про Китай какие-то статьи, книжки, но ничего сказать толком не могу и ничего не понимаю. Мне смешно, когда какой-нибудь человек съездил на неделю или на месяц в Китай и выпускает статью или опус. Потому что чем больше я там нахожусь, тем меньше мне ясно. Для меня это некий психоделический уход, но не с помощью психоделиков, а с помощью пребывания в странном географическом состоянии. Ты можешь оторваться от того, что здесь, находясь там, и от того, что там, находясь здесь, то есть не иметь никаких устойчивых коннотаций и быть полностью в каком-то смысле свободным.
Что касается юбилея ПГ и концерта грядущего, то его предложили не мы, а группа «Ленина пакет». И, соответственно, они хотели очень давно что-то такое замутить. Но у нас были сложности, потому что я большую часть времени в Китае, второй наш участник — Катала — в Америке. И только после двух (или даже больше) лет обсуждения сейчас вот реально окажемся все вместе в Москве, и можно устроить такое празднование.
Эти 20 лет — на самом деле 20 лет концептуального провала.
— Что для тебя эти 20 лет?
— Для меня 20 лет — это как-то странно, кажется, только что это все происходило. Но прошлым летом, например, усилиями двух издательств — «Смена» и «Живет и работает» — была выпущена книжечка моих рассказов про музыкальный фестиваль, который группа ПГ в 1999 году устраивала в Туве. И смотрю на эти рассказики про ту поездку, а трое из их персонажей уже умерли: Филя из группы «Карибасы», художник Володя Костюков из Текстильщиков и вот недавно Дюша Фанки. Все ушли довольно молодыми. Получается, уже целая вечность прошла. И пусть сейчас нас кто-то хвалит, вспоминает и куда-то зовет, но для меня лично эти 20 лет — на самом деле 20 лет концептуального провала. Потому что ничего из того, что мы хотели сделать, когда выпускали эту кассету, не вышло.

— А что хотели?
— Вот сейчас «Ленина пакет» по поводу этого события выпустили пресс-релиз, где назвали нас родоначальниками концептуального хип-хопа, а себя, значит, классиками концептуального хип-хопа. А есть еще раскрутившийся рэпер Гнойный, который называет уже их своими учителями. А это уже такой массовый рэпер типа Пугачевой, только в рэпе. А мы, значит, тогда такие уже дедушки хип-хопа. Но на самом деле, конечно, мы никакие не хип-хоперы, а просто художники в человеческом смысле: люди, которые художественно воспринимают мир. И мы хотели, конечно, его изменить. Это долгий разговор: я еще учился в школе, не помню, может быть, в институте курсе на первом. В общем, когда мне было лет 16—17, у меня были друзья лет на пять старше, и они устраивали литературные квартирники. Они собирали по рублю за вход, и в этих квартирах выступали писатели: Сорокин, Рубинштейн, Пригов, Ерофеев. Конечно, это повлияло очень сильно и на мое сознание, и на сознание моих друзей. И это такая концептуальная не только литература, но и вообще культура, потому что эти писатели параллельно были и художниками. Нам это представлялось ясной оппозицией: высокая официальная культура и культура андеграунда. Мне и моим друзьям казалось, что андеграунд сокрушит официальную культуру и тогда все изменится. И, когда мы что-то затевали, мы, наверное, так же думали: что вот есть некая официальная культура вокруг, а мы — представители андеграундной линии, которая все это разрушит. То есть существуют четкий верх и четкий низ, а мы этот мир перевернем, сделаем какую-то революцию. Но ничего, конечно, из этого не удалось. Просто со временем все изменилось, исчезла эта оппозиция, сейчас все субкультуры существуют вместе: высокая культура, такая, сякая. Невозможен никакой радикальный переворот. Ну, я не знаю, те же толстые журналы, которые были в советские годы, — их нелепо сокрушать, они сами стали такой маленькой субкультурой. Нет ни центра, ни периферии, ни верха, ни низа, все перемешалось.
— Может, вы и хотели все перемешать? Потому что мы с тобой знакомы довольно давно, и у тебя было очень много разных увлечений — или, говоря более таким искусствоведческим языком, ты использовал разные медиа. Мы познакомились, когда ты был журналистом, который работал в журнале «Иностранная литература» и в «Независимой газете». Потом ты занялся современным визуальным искусством, вы делали лайтбоксы, ты издавал самиздат ПГ, у вас был свой клуб — знаменитый клуб «Пушкинг» в Гнездниковском. То есть ты пробовал себя в разных сферах: от активизма и визуальной инсталляции до собственно вот кассеты. Я помню, когда она вышла — казалась шуткой, а сегодня, видишь, время обернулось, и теперь есть уже такая генеалогия музыкальная. То есть ты уже классик — как тебя назвали? — основатель концептуального хип-хопа. Вот это переключение между разными медиа для тебя важно? Как ты выбирал, когда ты будешь работать со словом, когда — с образом, когда — с организацией какого-то активистского движения, будь это клуб «Пушкинг», или собирание вещей для Чечни, или любая форма активизма или антифа-активизма?
— Вот пока ты спрашивал, я как-то додумал, что провал закончился тем, что я и начинал работу в тех же медиа, в которые вернулся. Я это осознаю как провал, потому что мы хотели как-то из этого уйти, создать свое поле. И чем я сейчас закончил: в прошлом году, спустя 20 лет, я печатаюсь в той же «Иностранной литературе» или в журнале «ХЖ», которые для нас и были некоей оппозицией. Для современного человека естественно одновременно слушать условную «Гражданскую оборону» и читать книжки условного издательства «НЛО». Потому что все это слиплось в некий единый ком. Есть еще второй аспект, наверное, экономический: условных «фаланстеров» — я имею в виду не книжный магазин, а как бы узлы культуры — мало. Невозможно, чтобы некоторые были левыми, а иные — либеральными. Все аккумулируются, их так мало и такие маленькие эти узлы, что невозможно выстроить разграничение, поэтому все перемешивается. И наше, отдельное, поле оказалось невозможно создать.
Что касается меня лично, у нас все искусство было нарративное. Я всегда воспринимал себя как некоего нарративщика, и в рамках художественной, музыкальной, любой деятельности я выстраивал всегда драматургию. Изначально мы — люди книжной культуры, но через какой-то момент поняли, что через чистый текст сейчас сложно говорить с людьми, есть какие-то другие способы. Мы на текст нанизывали уже музыку или видеоизображение, но всегда хотели о чем-то рассказать. То есть у нас не было такого просто абстрактного образного видения, всегда был рассказ о чем-то. Мы использовали дополнительные способы повлиять на зрителя или слушателя, чтобы донести какие-то свои идеи через более актуальные, более современные средства разговора. На тот момент этими средствами были видеоряд или музыка. Мы просто обсуждали с ребятами, и кто-то сказал, что «Мухоморы», скажем, говорили на языке рока, потому что рок был в свое время языком молодежи; давайте поговорим на языке рэпа. Ну и решили: давайте на этом языке попробуем поговорить. Так получился рэп.
И тут наконец я оказался в роли самого что ни на есть настоящего «чужого».
— А как бы ты определил свою identity? Ты работаешь в университете, но ты не часть академического мира. Ты записал прорывную рэп-кассету, но ты, безусловно, не музыкант. У тебя были арт-группа и какая-то встроенность в арт-рынок, но при этом ты вышел, насколько я понимаю, из этого поля. Как бы ты описал себя и вот эту туманность ПГ?
— Ну, у нас всегда был, наоборот, посыл ухода от identity, мы считали, что identity ведет к коммерциализации. То есть если ты с чем-то идентифицируешься, то тебя можно и продать. Может, это была и наивная идея, но даже в какой-то музыкальной части мы всегда меняли названия. То назывались «Противотанковая граната», то поп-группа «Двери», то поп-группа «Дрели», то еще как-то. Маскировались, как только возникали залипание и возможность нас идентифицировать. У нас есть друзья-художники, и они, конечно, стали более известными художниками, чем мы. Мы были с музыкантами, они стали дико известными музыкантами и т.д. Были среди наших товарищей и писатели, и поэты.
Этим и отличается, как мне кажется, экспериментальная лаборатория от проекта. Я не люблю проектность. Проект — когда ты что-то делаешь и работаешь на обратную реакцию, на зрителя или слушателя. Ты считал эту реакцию, исходя из нее, ты выстроил свой имидж и продолжаешь что-то делать в рамках этой парадигмы. И дальше ты начинаешь на этом зарабатывать: 10 лет, 15. Это очень скучно. Ты ограничиваешь себя и в конечном счете вынужден говорить не о том, что хочешь, а о том, чего от тебя ждут. Мы не проект, мы — эксперимент, а эксперименту важна прямая реакция, а не обратная. Ты можешь разговаривать с людьми, пытаешься донести до них какие-то свои идеи. И всегда это делаешь, исходя из своих собственных творческих идей: это разговор о том, что ты хочешь, о том, что наболело. Этим отличается лаборатория от изначально андеграундного, но становящегося потом коммерческим проекта. Поэтому нам не хотелось зарабатывать узнаваемую идентичность. Мы старались в рамках культурного анархизма избежать узнаваемости.
— Но, видишь, при этом странным образом празднуется двадцатилетие именно кассеты ПГ. То есть, несмотря на эту тактику ускользания, музыкальная — наиболее легкая, как я понимаю, и ситуативная — история, которая была произведена контуром ПГ, обросла наибольшей солидностью. Следующее поколение слушает эту кассету. Вы из всего многообразия сторителлинга, искусства, организовывания клубов или общественных пространств вдруг сжались до уровня интернет-мема. Это тебя пугает или радует, как ты относишься к этому?
— Да, тут есть элемент того, от чего мы убегали. Невозможно окончательно избавиться от этой узнаваемости. А с кассетой ясно как пень: молодежь больше слушает музыку, чем читает книжки. Но те, кому нужно, все равно знают про наши художественные проекты. Кто-то знает книжки. То есть это, скорее, слепок современности. Поскольку музыку больше слушают, можно вдруг оказаться в роли условных музыкантов. Для нас это не настолько важно. Потом, может, кто-нибудь скажет, что мы как-то повлияли и в художественном мире. По-разному происходило. У нас была такая книжка «Дать Пи». И я встречал очень многих молодых людей антифашистского профиля, которые говорили, что выросли на этой книжке. Потом я встречал довольно много людей, которые говорили, что выросли на наших арт-клипах. Все же меняется, то одно, то другое выходит на первый план. Культура синусоидная, как Пригов говорил. По его же словам, литература была онтологична XIX веку, сейчас заниматься литературой — это все равно что ездить на лошади.
Все читают рэп или снимают видео. Пришла пора вернуться к текстам.
Я это слышал от него, когда еще был совсем маленьким. Наверное, это в каком-то смысле на нас повлияло. Он рассказывал, что от текстов перешел к звуковой поэзии, перформансу, к каким-то вещам, которые были в рамках эксперимента, но созвучны нынешнему витку культуры. Я видел тогдашних поэтов, таких заросших, бородатых мужиков со вшами в волосах, которые никому не были нужны: на поэтические вечера ходили только сами поэты. Кому они несут свои светлые, прекрасные истины, кроме самих себя? Время Маяковских безвозвратно ушло. Поэтому для нас современным языком поэзии стал рэп. Но сейчас он превратился в общее место. Довольно противное. Годзилла расплющила все остальное. Все читают рэп или снимают видео. Пришла пора вернуться к текстам.
В детстве я, конечно, не предполагал, что, когда повзрослею, снова встречусь с теми же концептуалистами, на которых вырасту, и они уже будут знать наше творчество: мне это и в голову не могло прийти, для меня это было вообще как «отцы и дети». Но, если говорить про них, мне кажется, Пригов из них был самым живым, дольше всех продолжал интересоваться чем-то новым и актуальным. Я помню, он сам подбегал и говорил: «Ой, я там видел ваш клип “Илья Муромец”, это же классно: все в одном — и перформанс, и музыка, и видео, и текст». И он был абсолютно открыт. А Сорокин как-то при встрече сказал про журнал ПГ, что таким и должен быть андеграундный журнал и у него он стоит на полке. Было приятно.
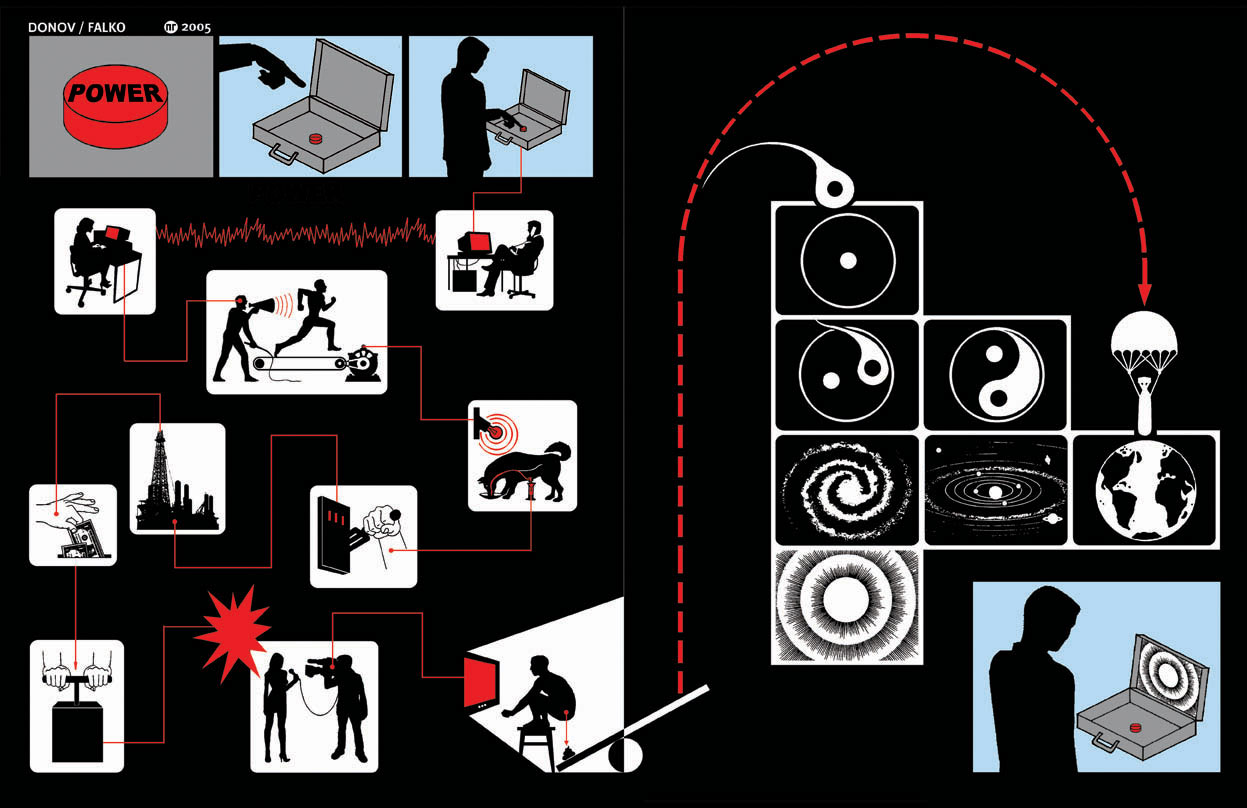
— Я имел тут недавно разговор с одним арт-деятелем. Он продвигал историю, что для него главная фигура русского искусства второй половины ХХ века в том смысле, что она продолжает амбиции авангарда — а его амбиции состояли в стирании всех автономных границ между отдельно визуальным, текстом и музыкой, — это Пригов. Что у Пригова есть та тотальность, которой нет, например, у Кабакова, несмотря на название «Тотальная инсталляция». И ты в своих проектах всегда имел энергию нарушать автономию любой формы. С одной стороны, у тебя была чувствительность к новым медиа, ты первым начал тут издавать комиксы, арт-самиздат, проводил первый слэм… Но при этом у тебя был очень повышенный социальный темперамент. То, что ты называешь политической ангажированностью. Тебя интересовали социальные бифуркации. Любые: от модных субкультур до антифа, чеченских. Что отлично как раз и передано во всех четырех песнях кассеты, которая стала поводом для этого разговора. Ты принимаешь формы разных субкультур, у тебя есть чувствительность к социальным таким мемам. Скажи мне: как тебе кажется, есть ли у тебя сейчас этот нюх на социальные бифуркации московского комьюнити или китайского, отмечаешь ли ты какие-то новые формы, множества?
— Китай для меня был более интересным уходом за рамки, потому что это позволяло вырваться вообще из любой ангажированности, в том числе и политической. То есть уйти от тем, в которых здесь ты залипаешь. Все-таки при всем нашем стремлении выйти за рамки какого-то круга ты все равно оказываешься в каком-то круге. И вдруг, вырываясь в Китай, ты оказываешься вне этих рамок социальных, политических, рамок идентичностей, субкультур. Мы так долго выступали от лица «чужих» — пели, например, чеченский рэп. Примерить на себя маску «чужого» — это же круто. И тут наконец я оказался в роли самого что ни на есть настоящего «чужого». Для меня это совершенно новый эксперимент, хотя, может быть, там я тоже уже во что-то залип.
— Мне кажется, вас подвела ваша серьезность. Потому что последняя песня, которую я слышал перед вашим отъездом, — «Я бы женился и на иностранке». И это произошло. Вы все как бы уехали. То есть вы совпали со своими текстами.
— Как пошутишь, так и случится. С тех пор я больше не шучу (смеется).
«ПГ — 20 лет» в клубе «Вермель» 6 июля с 19:00.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ
 Разбираетесь в искусстве XX века?
Разбираетесь в искусстве XX века?
Давайте проверим вас на птицах и арт-шарадах художника Егора Кошелева
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Журналистика: ревизия
Журналистика: ревизияРазговор с основательницей The Bell о журналистике «без выпученных глаз», хронической бедности в профессии и о том, как спасти все независимые медиа разом
29 ноября 202322678 Журналистика: ревизия
Журналистика: ревизияИзвестный публицист о проигранной борьбе за факт и о конце западноцентричной модели журналистики
17 ноября 202321616 Журналистика: ревизия
Журналистика: ревизияРазговор с главным редактором независимого медиа «Адвокатская улица». Точнее, два разговора: первый — пока проект, объявленный «иноагентом», работал. И второй — после того, как он не выдержал давления и закрылся
19 октября 202327511 Журналистика: ревизия
Журналистика: ревизияНи с теми, ни с этими. Известный журналист ищет пути между медийными лагерями и обвиняет оппозиционно-эмигрантский в предвзятости
10 октября 202344342 Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials